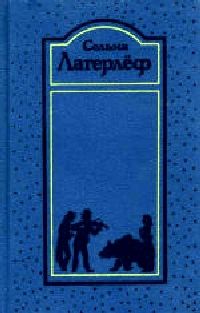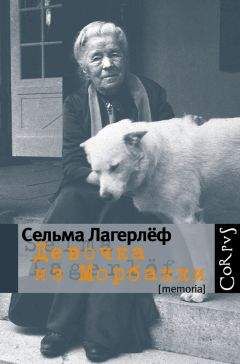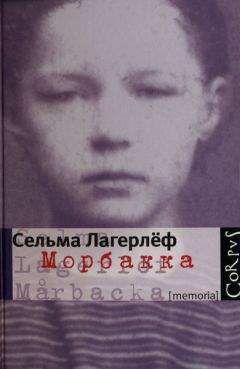— Подержи лошадь, Андерсон! — говорит она кучеру. — Надеюсь, господа, которые довезли меня до дому, будут настолько добры, что не откажутся зайти к нам? Граф скоро приедет.
— Как вам будет угодно, графиня, — говорит Йёста, поспешно выходя из саней. Бейренкройц также без всякого колебания бросает вожжи. Молодая графиня с едва скрываемым злорадством ведет их в зал.
Она, конечно, полагала, что кавалеры не решатся принять приглашение дождаться графа.
Они просто не представляют себе, до чего строг и справедлив ее муж, потому они и не страшатся той кары, которая ожидает их за то, что они насильно схватили ее и увезли. Она заранее предвкушает, как он запретит им впредь переступать порог его дома.
Ей уже представляется, как граф позовет слуг и, указывая на кавалеров, строго-настрого прикажет никогда не раскрывать перед ними дверей Борга. Ей так хотелось услышать слова презрения, которыми он их накажет не только за нее, но и за их недостойное поведение по отношению к их благодетельнице, старой майорше.
Он, такой нежный и снисходительный с ней, гневно обрушится на ее обидчиков. Любовь придаст огня его словам. Он, который охранял и уважал ее как существо, стоящее выше всех остальных, — он не потерпит, чтобы эти Грубияны бросались на нее, словно хищные птицы на воробья. Она пылала жаждой мести.
Однако седоусый полковник Бейренкройц вошел как ни в чем не бывало в столовую и направился прямо к камину, который по приказанию графини всегда зажигали к ее возвращению из гостей.
Йёста остался в темном углу у двери и молча смотрел на графиню, пока слуги помогали ей снять шубу. Он смотрел, смотрел на нее, и впервые за много лет какое-то светлое чувство охватило его. Ему вдруг стало ясно — это было для него словно какое-то откровение, хотя он и сам не понимал, каким образом его осенило, — какая чистая и прекрасная душа у нее.
Пока еще душа ее не проснулась и не проявила себя, но придет время — и она, несомненно, проснется. Невыразимая радость, что он открыл эту чистую, кроткую и невинную душу, переполняла его. Он едва сдержал улыбку при виде негодования, которое она пыталась изобразить, стоя с пылающими щеками и сдвинутыми бровями.
«Ты и сама не знаешь, до чего ты мила и добра», — подумал он.
Сама она, живущая в мире чувств, едва ли была в состоянии понять, насколько она совершенна. Отныне он, Йёста Берлинг, будет служить ей, как служат всему прекрасному и неземному. И нечего раскаиваться, что он только что обошелся с ней грубо. Не рассердись, не оттолкни она его с возмущением, не почувствуй он, как все ее существо потрясено его грубостью, он никогда не узнал бы, какая тонкая и благородная душа скрыта в ней.
Откуда было это знать ему раньше? Он знал лишь, что она любит веселье и танцы и, кроме того, что она могла выйти замуж за этого глупца Хенрика Дона.
Но теперь он станет ее рабом до самой смерти, — верным псом и рабом, как любил говорить капитан Кристиан Берг.
Йёста Берлинг сидел в углу у двери, благоговейно сложив руки и переживая минуты небывалого экстаза. С того самого дня, когда он впервые почувствовал в своей груди огонь вдохновения, никогда еще не переживала его душа такого священного трепета. Его состояние не нарушил даже приезд графа Дона в сопровождении целой толпы людей, которые кричали и ругались, выражая свое возмущение поведением кавалеров.
Он предоставил Бейренкройцу честь принять на себя первый шквал. А тот, испытанный во многих передрягах, стоял с невозмутимым спокойствием у камина. Он поставил одну ногу на каминную решетку, оперся локтем о колено и, подперев подбородок рукой, смотрел на вбежавших в комнату людей.
— Что все это значит? — закричал на него тщедушный граф.
— Это значит, — сказал Бейренкройц, — что пока на свете существуют женщины, всегда будут существовать и болваны, которые пляшут под их дудку.
Молодой граф вспыхнул.
— Я спрашиваю, что это значит? — повторил он.
— То же самое спрашиваю и я, — насмешливо ответил Бейренкройц. — Я спрашиваю: почему графиня, супруга Хенрика Дона, не желала танцевать с йёстой Берлингом?
Граф вопрошающе обернулся к своей жене.
— Я не могла, Хенрик! — воскликнула она. — Я не могла танцевать ни с ним, ни с одним из кавалеров, я все время думала о майорше, которую они оставили изнывать в заточении.
Маленький граф еще больше выпрямил свой негнущийся корпус и еще выше поднял свою старообразную голову.
— Мы, кавалеры, — сказал Бейренкройц, — никому не позволим оскорблять нас. Кто не желает танцевать с нами, должен прокатиться с нами. Мы не причинили графине никакого ущерба, и потому дело это можно считать законченным.
— Нет! — возразил граф. — Этим дело не кончится. За поступки своей жены отвечаю я. Почему же Йёста Берлинг не обратился ко мне за удовлетворением, если моя жена чем-то оскорбила его?
Бейренкройц улыбнулся.
— Я спрашиваю: почему? — повторил граф.
— У лисицы не спрашивают позволения снять с нее шкуру, — сказал Бейренкройц.
Граф приложил руку к своей узкой груди.
— Я считаюсь справедливым человеком, — воскликнул он. — Я судья своих слуг. Почему я не могу быть также судьей и моей жены? Кавалеры не имеют права судить ее. То наказание, которому они подвергли ее, я не принимаю. Считайте, что его никогда не было. Да, господа, никогда не было.
Граф выкрикнул эти слова тончайшим фальцетом. Бейренкройц окинул быстрым взглядом собравшихся. Среди присутствующих — здесь были и Синтрам, и Даниель Бендикс, и Дальберг, и много других — не было ни одного, кто бы не ухмылялся, слушая, как он дурачил глупого Хенрика Дона.
Сама молодая графиня не сразу сообразила, в чем дело. Чего же, собственно, он не принимает? Чего никогда не было? Уж не ее ли испуга, крепких объятий Йёсты, его дикого пения и безумных слов или его страстных поцелуев? Всего этого никогда не было? Неужели в этот вечер все было окутано покрывалом богини непроглядного мрака?
— Послушай, Хенрик...
— Молчать! — крикнул он. И выпрямился, чтобы обратиться к ней с обвинительной речью. — Горе тебе, что ты, женщина, осмелилась судить поступки мужчин! Горе тебе, если ты, моя жена, посмела недостойно обойтись с тем, кому я охотно подаю руку! Какое тебе дело, что кавалеры заточили майоршу? Разве они не имели права на это? Где уж понять тебе, как глубоко задевает мужчин женское вероломство. Уж не желаешь ли ты сама пойти по тому же пути, если заступаешься за такую женщину, как майорша?
— Но, Хенрик...
Беспомощно, словно дитя, протягивает она руки, как бы желая отвратить от себя злые упреки. Никогда еще не обращались к ней с такими словами. Она была такой беспомощной среди этих грубых мужчин, а тут еще ее единственный защитник тоже нападает на нее. Никогда больше ее сердце не будет иметь в себе силы озарять мир.
— Но, Хенрик, кто, как не ты, защитит меня?
Йёста очнулся, когда было уже слишком поздно. Он совсем растерялся и не знал, что ему делать. Он так желал ей помочь! Но как он мог стать между мужем и женой?
— А где Йёста Берлинг? — спросил граф.
— Здесь! — сказал Йёста. И он предпринял тщетную попытку обратить все в шутку. — Вы, граф, кажется, выступали здесь с речью, а я заснул. Как вы посмотрите на то, если мы сейчас же уедем домой и дадим вам возможность тоже лечь спать?
— Йёста Берлинг, поскольку моя супруга графиня отказалась танцевать с тобой, я велю ей поцеловать твою руку и попросить у тебя прощения.
— Мой дорогой граф, — сказал Йёста, улыбаясь. — Это не та рука, которая достойна поцелуя молодой дамы. Вчера она была окрашена кровью убитого лося, сегодня она черна от сажи после драки с углежогом. Вы, граф, вынесли справедливый и великодушный приговор. Это достаточное удовлетворение. Пошли, Бейренкройц!
Граф преградил ему дорогу.
— Нет, постой! — сказал он. — Моя жена обязана мне подчиняться. Я желаю, чтобы графиня знала, к чему ведет самоуправство.
Йёста беспомощно остановился. Графиня была очень бледна, но не трогалась с места.
— Иди! — приказал ей граф.
— Хенрик, я не могу.
— Ты можешь, — сказал граф сурово. — Ты можешь. Но я знаю, чего ты добиваешься. Ты хочешь вынудить меня стреляться с этим человеком, которого ты по какой-то прихоти невзлюбила. Ну что ж, если ты не хочешь дать ему удовлетворение, придется мне за все отвечать. Вам, женщинам, всегда приятно, когда мужчины ради вас бьются насмерть. Ты совершила ошибку и не желаешь ее исправить, следовательно я должен сделать это вместо тебя. Что ж, я буду драться на дуэли и через несколько часов стану окровавленным трупом.
Она посмотрела на него долгим, пристальным взглядом. И вдруг увидела его таким, каким он был на самом деле: глупым, трусливым, самодовольным и тщеславным, самым жалким из всех людей.
— Успокойся! — сказала она и сделалась холодной, как лед. — Я сделаю, как ты хочешь.
Но тут Йёста Берлинг не смог более выдержать.
— Нет, графиня, вы не сделаете этого! Ни за что! Вы ведь слабое невинное дитя, и вы хотите целовать мою руку! У вас такая чистая, прекрасная душа. Никогда больше я не посмею приблизиться к вам. О, никогда! Я приношу с собой несчастье и гибель всему прекрасному и невинному. Вы не должны дотрагиваться до меня. Я трепещу перед вами, как огонь перед водой. Не приближайтесь ко мне!