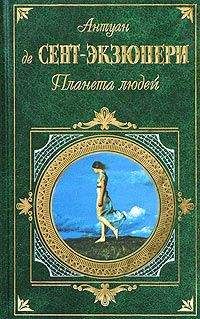Пойми, я осуждаю не честолюбие, честолюбие тоже желание созидать. Я осуждаю зависть. От зависти родятся только интриги, а интриги — гибель для творчества, которое в первую очередь чудо совместной работы всех с помощью каждого. Сперва ты судишь своего небезусловного государя, потом ты его презираешь. Ты знаешь, что он выше тебя, потому что у него больше власти, но отказываешь ему в справедливости, уме, благородстве сердца. Ты презираешь его, и его уважение к твоим трудам для тебя не награда. Уважение тех, кого мы презираем, оскорбительно нам. И вот твоё положение становится для тебя невыносимым.
Приказы временщика унижают тебя, но ведь он и хочет тебя унизить, у него нет иного средства дать почувствовать весомость своей власти. Быть с тобой на равных, делить хлеб, расспрашивать, восхищаться твоими познаниями и достоинствами может только тот, кто стоит у власти так же естественно, как стоит крепость. Крепость стоит себе и стоит, чем тут наслаждаться, чему радоваться?
Вот я пришёл и сел за стол последнего из своих слуг. Он вытер стол, поставил на огонь чугунок, он счастлив моему приходу. Разве камень фундамента упрекает замковый камень за то, что тот держит свод? Разве ключ свода презирает фундамент? Я и мой слуга, мы сидим друг напротив друга как равные. Только такое равенство я признаю исполненным долга. И если я расспрашиваю его о пахоте, то не из низкого желания польстить ему и расположить к себе — мне не нужны избиратели, — я спрашиваю, потому что хочу поучиться. Когда спрашивают и не выслушивают ответа, ощутимо презрение. И ответивший нащупывает в кармане нож. Но мне важно знать, сколько маслин приносит оливковое дерево, я внимательно выслушиваю ответ.
Я пришёл в гости просто к человеку. И этот человек принимает меня как гостя. Мой приход для него подарок, его правнуки будут знать, на каком из стульев я сидел.
Моя власть безусловна, поступки мои не диктуются низкой корыстью, я способен чувствовать свойственную людям благодарность. Вот мне улыбнулись, поздоровались, вот жарят для меня барашка, я — гость, он — хозяин, и, кроме других разных чувств, мы испытываем друг к другу просто человеческое тепло. Дары гостеприимства, будто стрелы, вонзаются в моё сердце. Вот и Господь слышит твою самую короткую молитву, самую мимолётную мысль: нищий вздохнул о Нём в раскалённой пустыне. Но если в гостях у тебя мелкий князёк с сомнительными правами на власть, дары твои должны быть велики и обильны, по изобилию даров судит он о собственной значимости.
Незнакомец крутит скрипучий ворот, с усилием вытянул ведро на каменный край колодца и засмеялся маленькой своей победе, он идёт под жарким солнцем в тень, в тени возле стены стою я, он наливает мне свежей воды, и сердце моё освежается любовью.
На примере куртизанки объясню я то, что хочу сказать о любви. Вещь ты счёл безусловным и ошибся. Пейзаж, открывшийся тебе с вершины горы, ты создал усилиями, затраченными на подъём, вот и любовь питается затраченными усилиями. Нет ничего, что обладало бы ценностью само по себе, — нити, связующие дробность в единое целое, придают отдельной вещи и цену, и смысл. Носа, уха, подбородка, второго уха мало, чтобы мрамор сделался лицом, необходима игра мускулов, связующая их воедино. Кулак, который держит. Звёзды, число девять, родник ещё не стихи, но они появились, когда я завязал всё одним узелком, заставив девять звёзд купаться в роднике. Я не спорю, связующие нити выявляются благодаря тем предметам, которые они между собой связали. Но не вещи главное. В ловушке для лисиц главное не верёвка, не палка, не защёлка — творческое усилие, которой соединило их, и вот ты слышишь тявканье пойманной лисицы. Я — поэт, ваятель, танцовщик, я сумею поймать тебя в свою ловушку.
А любовь такое же творчество. Чего ждут от куртизанки? Телесного отдыха после боевых трудов, которыми завоёван оазис. Ты не нужен ей, с ней тебя словно бы и нет. Любовь пробуждает спящего в тебе ангела, и, преисполнившись благодарности, ты готов лететь на помощь любимой.
Разница не в доступности: раскрой объятия, и любимая прильнёт к тебе. Разница в даримом. Невозможно одарить куртизанку, всё, что ни принесёшь ей, она сочтёт заслуженной мздой.
Но если существует мзда, ты прикидываешь, по карману она тебе или нет. Так расставлены фигуры в танце, который танцуется с куртизанками. Солдаты с тощими кошельками в сумерках разбрелись по весёлому кварталу, они торгуются и покупают любовь, как хлеб. И, как хлеб, покупная любовь даёт им силы шагать по пустыне дальше, усмирив тело и сделав радостным одиночество. Но, покупая любовь, они примерили фартук лавочника, они не почувствовали, что означает усердие.
Надо быть богаче короля, чтобы куртизанка поняла, что её одарили, — но даже если подарить ей полмира, она поблагодарит себя, похвалит за удачливость и возгордится красотой и хитростью, благодаря которым ты так раскошелился. В этот бездонный колодец ты можешь спустить золото тысяч и тысяч караванов и всё-таки ничего не подаришь. Нет того, кто принял бы от тебя дары.
Вот почему мои солдаты поглаживают вечерами и чешут за ухом маленького лисёнка. Что-то похожее на любовь сжимает им сердце, когда им кажется, что они одарили дикого зверька теплом, они хмелеют от благодарности, если лисёнок нечаянно к ним прижмётся.
Но в каком из весёлых кварталов куртизанка прижмётся к тебе, потому что ты ей нужен?
Случается, однако, что кто-то из моих солдат, не богаче и не беднее прочих, тратит свои деньги не глядя, словно дерево, отдающее семена ветру, он — солдат, он презирает деньги.
Он заходит в один притон, в другой, ослепляя всех фейерверком своей щедрости. Он похож на сеятеля, спешащего насытить семенами жадно ждущую землю.
Мой солдат расстаётся со своим богатством и не хочет ничего сохранить для себя, он единственный понял, что такое любовь. И в ответ, может быть, проснётся любовь и в куртизанках, потому что сейчас танцуется другой танец, и этот танец в радость и им.
Повторяю: принимать и брать не одно и то же, ты рискуешь всегда пребывать в заблуждении, если не поймёшь разницы. Принимается подарок, а подарок всегда дар самого себя. Скуп не тот, кто пожалел денег на подарок, скуп тот, кто не расцвёл и в ответ на твои дары. Скупа земля, если не оделась цветами, забрав у тебя семена.
А свет? Он вспыхивает иной раз и в куртизанке, и в пьяном солдате.
Растратчиками — вот кем стали жители моего царства. Никто в нём больше не пестует человека. Одухотворённое лицо в нём уже не маска, оно — крышка пустой коробки.
Только и знали они, что разорять Сущее, и они его разорили. Я смотрю и не вижу среди них ни одного достойного смерти. А значит, и жизни. Потому что живёшь тем, за что готов умереть. Но они насыщались, потребляя созданное, они развлекались грохотом камней, разрушая храмы. Храмов нет, но нет им и замены. Своими руками эти люди уничтожили все пути самовыражения человека. И уничтожили человека.
Ища радость, они ошиблись и сбились с дороги. В прежние времена говорили: «деревня», и возникало ощущение прочности быта, устоев, неизменности обрядов. Устоями поддерживалось усердие деревни. Но они пришли и всё перемешали. Их не радовала неторопливо нажитая, устоявшаяся целостность взаимопроникающих связей, им хотелось найти готовый припас, который был бы всегда под рукой и служил безотказно, как чужое стихотворение. Тщетная надежда.
Многие, желая величия человеку, хотят для него свободы. Они видят: принуждения сковывают возможности человека. Так оно и есть. Враг помогает тебе сформироваться и вместе с тем ограничивает тебя. Но не будь у тебя врагов, ты не родишься.
Часто верят, что радует готовое. Что можно просто-напросто наслаждаться весной. Но нет сладости у весны, если ты не преобразился в растение, чтобы насладиться ею. Нет сладости у любви, если ждёшь, что тебя одарит ею красивое лицо. Чужое произведение может растрогать тебя своей мукой, но песня галерников о лишениях и разлуке запомнится тебе, только если ты сам мучительно расставался, если неумолимая судьба казалась тебе галерой.
Тот, кто без тени надежды на успех выгребал к рассвету, поймёт песню галерника; тот, кто изнемогал от жажды в пустыне, поймёт песню о лишениях и разлуке. Но если ты ничего не выстрадал, ты пуст, и дать тебе что-то невозможно.
Нет, деревня не стихотворение, которым ты можешь безмятежно наслаждаться, восторгаясь горячей похлёбкой на ужин, благорасположением людей, мирным запахом молока в хлеву и праздничным фейерверком на площади. Откуда взяться в тебе празднику, если он не завершил череду каждодневных тягот? Если он не напоминает тебе, как после долгих лет рабства наступила свобода, после долгих лет ненависти — любовь, если он не память о спасительном чуде, осветившем мрак безнадёжности? Всё вокруг для тебя молчит, и счастья у тебя не больше, чем у коровы.