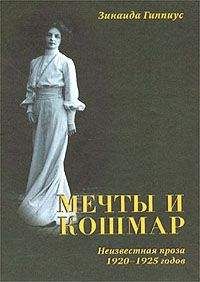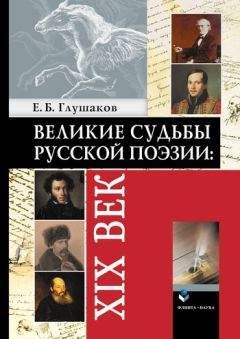Тайна, как он говорит, «причастная тайне зеркала».
Он еще спрашивает себя, почему, когда смерть, его (зеркало) закрывают, но уже понял, уже ответил себе на этот вопрос. Он знает: там, в зеркальном мире, точь-в-точь таком же, как здешний, только во сто тысяч раз прекраснейшем — не может быть смерти. Смерть не должна в нем быть, не смеет в нем отразиться. Это она требует, чтобы закрыли зеркало.
И не оттого ли мир зеркала так прекрасен, что в нем нет °иерти?
Рассказ Бунина «У истока дней» даст нам ключ ко всем его произведениям, к тому, закрытому, что лежит за его художественной магией, ключ к писателю — человеку. Это душа, носящая в себе две тайны: тайну зеркального мира и тайну смерти. Сближенные в одной душе — они находятся в постоянном борении, в постоянном стремлении уничтожить друг друга.
Жизнь, природа, люди, весь мир — не отраженный, — так прекрасен; ведь он совсем такой же, как в зеркале! Красота, радость, любовь… Но вот опять «как внезапный ветер по затрепетавшим листьям дерева, по телу проходит одна мысль, одно сознание: в мире смерть…» И мир искажается гримасой, искажаются люди, носящие в себе смерть… Нет выхода, — нет входа туда, в чародейный и единственно-любимый мир зеркальный, где нет смерти.
Если мы с этим пониманием подойдем к Бунину, мы увидим и ту человеческую боль, страдание, с каким написана каждая строка его. Мы увидим в беспощадной зоркости его упрямое желание разгадать жизнь, упрямую, неумирающую любовь к жизни, здешней милой земной жизни… но победившей смерть.
Любовь?
«Любовь — это когда хочется того, чего нет и не бывает. Да, да, никогда не бывает!» (Здесь, в незеркальном мире, со смертью.) Но все равно. Нужно нести в себе хоть какой-нибудь, хоть слабенький огонек!
Порою Бунин, побежденный, говорит о дне, когда он исчезнет из мира в пустоту:
«И от моих попыток разгадать жизнь остается один след: царапина на стекле, намазанном ртутью». Но он ни минуты не бывает побежден окончательно.
Он говорит тут же:
«Ни мое сердце, ни мой разум, никогда не могли и до сих пор не могут примириться с этой пустотой».
Бунин вообще как человек (и как писатель) из непримиримых. Это его замечательная черта. Отчасти она является причиной его закрытости, скрытости, сжатости, собранности в себе.
Добр ли он? Не знаю. Может быть, добрее добрых; недаром такие полосы, такие лучи нежности прорываются у него… Но как-то не идет к нему этот вопрос. Во всяком случае, не мягок, не ломок. Достаточно взглянуть на его сухую, тонкую фигуру, на его острое, спокойное лицо с зоркими (действительно, зоркими) глазами, чтобы сказать: а, пожалуй, этот человек может быть беспощаден, почти жесток… и более к себе, нежели к другим.
Кто-то заметил, что лицо его напоминает лицо Иоанна Грозного. Да, пожалуй — только Иоанн Грозный был гораздо более беспощаден к другим, нежели к себе. А это громадная разница.
В наши дни, когда ветер смертных крыльев обнял почти всю землю, а родная Бунину земля, Россия, томится в агонии, — в эти наши тяжкие дни неужели так с этой злой тайной и примириться? Отдать ей красоту неба, душу и тела людей? Забыть, разлюбить мечту о новом зеркальном (совсем как здешний) мире? Покориться без борьбы?
Иван Бунин вырван с корнем из родной почвы. Он физически не может вернуться, прикоснуться, как древний богатырь, к своей земле, набраться новых сил. Но он не древний богатырь. Он может еще долго копить силы, не касаясь земли, черпать их в страдании. Вот он вырван с корнем — но корень свеж и жив. Кто знает, что было бы, если бы корень остался сейчас в этой земле: ее соки ядовиты, она пропитана кровью.
Бунин был один из немногих, кто всем существом, изнутри, задолго до несчастия своей земли, чувствовал его приближение. Зная что-то о тайне жизни и «причастной ей» тайне смерти — он видел тень смерти на земле, на людях. Мы видели то Же» с ним, — но мы не понимали.
Не любит Россию, не верит в русский народ! — кричали ему. А сколько ныне из этих «верующих» превратилось в «проклинателей»?
Да ведь дело тут даже и не в России. И не в вере в нее. Дело в том, что Бунин знал и видел то, что шире России. А лишь видя и любя это всемирное, вечное, жизнь в ее тайнах, — можно понимать и жизнь своей земли.
Зоркие очи. Крепкая, скрытая, упрямая сила любви к самому сердцу бытия, — к его смыслу, к его светлой тайне. Непримиримая, воинствующая ненависть к черноте, ко лжи, наплывающей на бытие. И острое оружие в руках — волшебство слова.
Это оружие не сложит, не опустит наш современный боец, замечательный человек и замечательный писатель — Иван Бунин.
Не говорить о большевиках, пока Россия находится под этим новым татарским игом, — нельзя. Нужно говорить, нужно твердить одно и то же, не боясь повторений. Все разумные и трезвые люди, знающие Россию и большевиков, говорят одно и то же.
Но трезвых и разумных здесь, в Европе, меньше, чем близоруких и сумасшедших. Близорукие не видят, сумасшедшие не слышат. Есть еще хитрые глупцы, которые нарогно не слышат правды о большевиках, воображая, что так им выгоднее. О них совсем не стоит заботиться: рано или поздно они получат свою награду. Глупость неизлечима, но сумасшедший все-таки может прийти в разум.
Это последнее чудо, кажется, уже начинает совершаться в России. Еще год-полтора тому назад большинство русского народа было в безумии. Когда мы ехали из Петербурга (перед нашим побегом), положительно весь вагон был сумасшедший. Вся мужицко-красноармейская толпа, грязная, больная, густая, сдавленная — все это были безумцы.
Гляжу с верхней лавки вниз и слушаю.
Бледный солдат, обвязанный тряпками, кричит: «Состарила меня эта жизнь! Силушки нету!» Я возражаю: «Чего вам стариться, сами же виноваты».
— Сами! Да ведь взглянуть надо, ведь народ не то, что сдурел, а прямо с ума посходил. Нас бы ткнуть в загривок хорошенько, так пришли бы в разум.
Другой вступается:
— Мало тебя тычут. Всего истыкали, а он скулит.
— Верно истыкали. Да ведь кто тычет? Надо сказать… Но его перебивают:
— Ладно, молчи, «вплоть до расстрела» захотел! Дохни сам.
И разговор затихает. Действительно, повсюду юркие агенты, как фельдшера в психиатрической больнице, следят, чтобы безумцы не буянили, чтобы помешательство было тихое.
На местах, в Петербурге, например, эта тишина совсем легко достигалась. Полумертвые, разъединенные люди даже шепота своего боялись.
Большевики закончили, довершили свое дело (разрушения) приблизительно года 2 тому назад. С тех пор перемены в России могли быть лишь количественные (меньше хлеба, больше смертей). Перемена качественная могла начаться только от народа: народ должен был прийти в разум. И стоит оглянуться: за последние месяцы какой громадный шаг сделал народ на пути к выздоровлению!
Друзья, только что вырвавшиеся «оттуда», подтверждают нам это. Наши надежды оправдываются. Мы, покинувшие Россию 14 месяцев тому назад (то есть тогда, когда уже завершено и окончено было большевистское дело), говорим с этими приехавшими вчера так, как будто мы и не расставались. Понимаем друг друга с полуслова. Это потому, что мы знаем, — опытно узнали, изнутри поняли, — главную тайну большевиков.
Тайна эта столь проста, столь доступна разумному пониманию, и так плохо большевики ее хранят, что вновь прибывшие нам не хотят верить: — Да неужели до сих пор — до сих пор! находятся здесь русские или иностранцы, которые воображают, что в России — революция, диктатура пролетариата, советы? Да что же это за наивность! Ведь ничего же этого нет! Что делают те, кто вырвался оттуда и знает? Что вы делали?
И напрасно мы уверяем, что наивен — он сам, новоприезжий; что мы, и не одни мы, только и делали с утра до вечера, что пером, живым словом, всеми способами пытались и пытаемся открыть правду о России: да у здешних людей уши занавешены.
Ведь в самом деле ничего нет в России уже года два: ни революции, — вместо нее тишина кладбища, ни диктатуры пролетариата, — какой я был пролетариатишка, — скручен, перестрелян; ни советов, — они заменены назначенными от власти учреждениями. (Слава Богу, выздоравливающий народ уже кричит: долой подлые «советы».)
Мало того, что нет этих трех вещей, написанных на большевистской вывеске. Нет еще тысячи, миллиона вещей, — вообще всего, что может прийти в голову. Вот это нет, чистое отсутствие намека на свободу, на все, что составляет человеческую жизнь, надо взять за исходную точку, начиная разговор о большевиках. Их принцип, их пафос — нетовщина.
«Жизни нет!» — стонет каждый красноармеец, опоминаясь на мгновенье. Отрицание жизни, принцип нетовщины, естественно рождает и совдепский террор, доселе никогда неслыханный. Убивают «походя», почти не замечая, одного за другого, так, кто под руку попал. Не личность обесценена — просто сама жизнь обесценилась; на нее, как и на всякое ее проявление, большевики говорят «нет», а так как они имеют физическую власть, то свое «нет» непрерывно и воплощают.