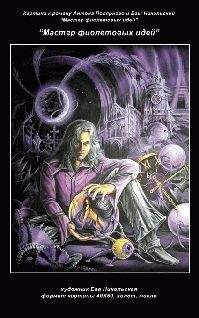Каллист загнал бы своего коня, если бы Гаслен вовремя не спросил хозяина, куда они так торопятся — не к отплытию ли корабля; как раз это меньше всего входило в намерения Каллиста, он отнюдь не желал встречаться ни с Конти, ни с Клодом и тотчас перевел лошадь на рысь. С несказанно приятным чувством вглядывался он в колеи, оставленные колесами кареты на песчаной дороге. «Она проезжала вот здесь, — думал он, охваченный каким-то безумным весельем, — на этих полях, на этих деревьях покоился ее взгляд».
— Какая красивая дорога, — сказал он Гаслену.
— Да уж, сударь, красивей нашей Бретани во всем мире нет края, — ответил слуга. — Ну где вы еще найдете такие изгороди? Все в цвету, а дороги все в зелени и вон как вьются.
— Ты прав, Гаслен.
— А вот и Бернюс едет.
— Спрячемся скорее, ведь в карете — мадемуазель де Пеноэль с племянницей.
— Где спрячемся-то?.. Бог с вами! Кругом пески.
Действительно, от песчаного берега Сен-Назера двигалась колымага, сколоченная без всяких ухищрений, со всей бретонской простотой. К великому удивлению Каллиста, в карете Бернюса было полно народа.
— Мадемуазель де Пеноэль с сестрицей и племянницей остались на берегу, они очень беспокоятся — все места в карете откупили таможенники, — пояснил возница Гаслену.
— Я пропал! — воскликнул Каллист.
И в самом деле, в карете восседали надсмотрщики таможни, которые, должно быть, спешили на соляные озера сменить своих собратьев. Каллист въехал на небольшую площадь, где стоит сен-назерская церковь, — оттуда открывается вид на Пембеф и живописное устье Луары, с ревом вливающей в море свои воды; он заметил Камилла и маркизу, которые махали на прощание платочками пассажирам, отплывавшим на пароходе. Беатриса была в тот день на редкость восхитительна: шляпка из рисовой соломки, украшенная маками и завязанная под подбородком пунцовыми лентами, бросала на ее лицо легкую тень, муслиновое платье в букетах красиво облегало стройный стан; она выставила вперед маленькую изящную ножку, обтянутую зеленой гетрой, и стояла, опираясь на зонтик прелестной ручкой в шведской перчатке... Нет более впечатляющего зрелища, чем женская фигура на вершине скалы, — невольно вспоминается статуя на пьедестале. Конти мог с борта видеть Каллиста, подошедшего к Фелисите.
— Я подумал, — сказал юноша, обращаясь к мадемуазель де Туш, — что вам придется возвращаться одним, и поспешил сюда.
— И правильно сделали, Каллист, — ответила Фелисите, пожимая его руку.
Беатриса обернулась и окинула юного обожателя самым высокомерным взглядом из своего репертуара. Однако по легкой улыбке, тронувшей губы Камилла, она поняла вульгарность этого маневра, достойного только мещанки. Тогда г-жа де Рошфид улыбнулась и промолвила:
— Скажите, а разве не дерзость с вашей стороны предполагать, что Камилл может заскучать в моем обществе?
— Дорогая моя, один кавалер на двух вдов никогда не лишний, — сказала мадемуазель де Туш, беря под руку Каллиста, и отошла с ним в сторону, оставив Беатрису в одиночестве любоваться отплывающим кораблем.
В эту минуту Каллист услышал на улице, круто спускавшейся вниз, к так называемому сен-назерскому порту, голоса Гаслена, мадемуазель де Пеноэль и Шарлотты, трещавших как сороки. Старая дева расспрашивала Гаслена и допытывалась, каким образом он и его хозяин очутились в Сен-Назере; карета мадемуазель де Туш произвела сенсацию. И прежде чем Каллист успел скрыться, Шарлотта уже заметила его.
— Вот и Каллист! — воскликнула юная бретоночка.
— Предложите дамам поехать с нами; их горничная сядет рядом с кучером, — сказала Фелисите; она слышала, что г-жа де Кергаруэт, ее дочка и мадемуазель де Пеноэль не достали места в почтовой карете.
Каллист не посмел возразить Фелисите и отправился к прибывшим передать ее приглашение. Как только г-жа до Кергаруэт узнала, что ей предлагают проехаться в карете вместе с маркизой де Рошфид и прославленным Камиллом Мопеном, она и слышать не захотела возражений старшей сестры, которая сурово запретила ей даже подходить к дьявольской колеснице, как называла она экипаж Фелисите. В Нанте, который лежит под иными, чем Геранда, так сказать, более просвещенными, широтами, Камиллом Мопеном восхищались; в Нанте она считалась бретонской музой и гордостью края, она возбуждала любопытство и зависть. Прощение грехов, данное ей в Париже светским обществом и модой, подкреплялось огромным состоянием мадемуазель де Туш и, быть может, ее былыми успехами в Нанте, который гордился тем, что стал колыбелью Камилла Мопена. Не удивительно, что виконтесса де Кергаруэт, обезумев от любопытства, повлекла за собой старшую сестру, не слушая ее причитаний.
— Добрый день, Каллист, — сказала младшая Кергаруэт.
— Здравствуйте, Шарлотта, — ответил Каллист, не предложив ей руки.
Оба они были удивлены — она его холодностью, он своей собственной жестокостью, и молча стали подниматься по крутому обрыву, который носил в Сен-Назере громкое название улицы; за ними на некотором расстоянии шествовали сестры де Пеноэль. В эту минуту юная шестнадцатилетняя девушка поняла, что все воздушные замки, которые она с такой любовью украшала романтическими мечтами, невозвратимо рухнули. Девочкой она играла с Каллистом, они провели вместе детские годы, она так привыкла к нему, что уже считала свое будущее определенным. Она прилетела в Геранду на крыльях бездумного счастья, как жаворонок летит к зреющей ниве; и вдруг этот безмятежный полет прервался — без всякой причины, без видимых препятствий.
— Что с тобой, Каллист? — спросила она, беря его за руку.
— Ровно ничего, — ответил юноша, беспощадно отнимая руку; в эту минуту он вдруг вспомнил о замыслах своей тетки и мадемуазель де Пеноэль.
На глазах Шарлотты выступили слезы. Она не сердилась на прекрасного Каллиста, но впервые в жизни была ужалена ревностью и почувствовала невероятную ярость при виде двух прекрасных парижанок, которые, как она догадалась, являлись причиной холодности Каллиста.
Шарлотта де Кергаруэт была шатенка среднего роста с кругленьким личиком, на котором играл яркий, пожалуй, слишком яркий, румянец, какой бывает у девушек ее возраста; ее черные, живые глаза светились умом, талия была чуть широкая, спина плоская, руки худые; говорила она резко и уверенно, — впрочем, это обычная манера провинциальных девиц, которые больше всего боятся прослыть простушками. В семье ее баловали, так как считалось, что старуха тетка отдает ей явное предпочтение. Для путешествия по морю она нарядилась в накидку из клетчатой шотландки, подбитой зеленым шелком. Ее дорожное, закрытое платье из дешевенькой шерстяной ткани и воротничок в мелких складочках вдруг показались ей ужасными по сравнению с свежими, блистательными туалетами Беатрисы и Фелисите. Она страдала с каждой минутой все сильнее, — белые чулки ее запачкались во время переезда в лодке и при высадке на круазикские скалы; такой же жалкий вид был у ее грубых кожаных туфель, которые она, по обычаю провинциалок, нарочно надела в дорогу, чтобы не испортить хорошей обуви. Ее мать, виконтесса де Кергаруэт, в совершенстве представляла тип провинциальной дамы. Высокая, сухая, преждевременно поблекшая, преисполненная тайных претензий, которые проявлялись только тогда, когда их ущемляли, она говорит так много, что нет-нет да и выскочит какая-нибудь здравая мысль, как случайный шар из-под кия игрока на биллиарде, — всем этим она и заслужила репутацию весьма тонкой дамы. Она любит принизить парижан пресловутым благодушием и мудростью провинции, разыгрывая из себя любимицу фортуны; она смиренно склоняется, чтобы другие подхватили ее под руки, и приходит в бешенство, видя, что никто и не думает подымать ее с колен; она старается, как говорят англичане, выудить комплимент, что не всегда ей удается; одевается с претензией, но неряшливо, принимает свое неумение быть любезной за независимость и верит, что тот, кого она не удостоит вниманием, будет бог знает как смущен; когда ей предложат даже что-нибудь очень заманчивое, она непременно откажется, заставит просить себя дважды и согласится с таким видом, будто снисходит к покорным мольбам; она вечно занята тем, о чем все уже давно позабыли, и при этом еще удивляется, что отстала от моды; и сверх всего она часу не может прожить, чтобы не упомянуть о Нанте и всей славе его, о высшем обществе Нанта; она жалуется на Нант, она критикует Нант, но принимает за личное оскорбление случайную фразу, которой рассеянный человек выразил согласие с ее критикой. Ее манеры, язык, воззрения в той или иной степени передались и четырем дочкам. Познакомиться с Камиллом Мопеном и маркизой де Рошфид — да ведь это неисчерпаемый кладезь будущих бесед и пересудов!.. И посему она решительно зашагала к церкви, словно хотела взять ее приступом, и помахивала при этом носовым платком, который она развернула, чтобы видны были уголки, густо украшенные домашней вышивкой и отделанные обветшалыми кружевами. Походка у нее гренадерская, что, впрочем, для дамы сорока семи лет не так уж важно.