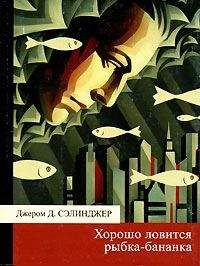Он уже опустился в шезлонг справа от Тедди. Шезлонги стояли так тесно, что подлокотники соприкасались.
— Но ведь это святотатство! — сказал он. — Сущее святотатство!
У него были поразительно мощные ляжки и, когда он вытянул ноги, можно было подумать, что это два отдельных туловища. Одет он был — от стриженой макушки до стоптанных башмаков — почти с классической разностильностью, как одеваются в Новой Англии, отправляясь в круиз: на нем были темно-серые брюки, желтоватые шерстяные носки, рубашка с открытым воротом и твидовый пиджак «в елочку», который приобрел свою благородную потертость не иначе как на престижных семинарах в Йеле, Гарварде или Принстоне.
— Боже правый, какой райский денек, — сказал он с чувством, жмурясь на солнце. — Я просто пасую перед игрой природы.
Он скрестил свои толстые ноги.
— Вы не поверите, но я, бывало, принимал самый обыкновенный дождливый день за личное оскорбление. А такая погода — это для меня просто манна небесная.
Хотя его манера выражаться выдавала в нем человека образованного, в общепринятом смысле этого слова, было в ней и нечто такое, что должно было, как он, видно, считал в душе, придать его словам особую значительность, ученость и даже оригинальность и увлекательность — в глазах как Тедди, к которому он сейчас обращался, так и тех, кто сидел за ними, если они слушали их разговор. Он искоса взглянул на Тедди и улыбнулся.
— А в каких вы взаимоотношениях с погодой? — спросил он.
Нельзя сказать, чтобы его улыбка не относилась к собеседнику, однако, при всей ее открытости, при всем дружелюбии, он как бы предназначал ее самому себе.
— А вас никогда не смущали загадочные атмосферные явления? — продолжал он с улыбкой.
— Не знаю, я не принимаю погоду так близко к сердцу, если вы это имели в виду, — сказал Тедди.
Молодой человек расхохотался, запрокинув голову.
— Прелестно, — восхитился он. — Кстати, меня зовут Боб Никольсон. Не помню, представился ли я вам тогда в гимнастическом зале. Ваше имя я, конечно, знаю.
Тедди слегка наклонился, чтобы засунуть блокнот в задний карман шорт.
— Я смотрел оттуда, как вы пишете, — сказал Никольсон, показывая наверх. — Клянусь Богом, в этой увлеченности было что-то от юного спартанца.
Тедди посмотрел на него.
— Я кое-что записывал в дневник.
Никольсон улыбнулся и понимающе кивнул.
— Как вам Европа? — спросил он непринужденно. — Понравилось?
— Да, очень, благодарю вас.
— Где побывало ваше семейство?
Неожиданно Тедди подался вперед и почесал ногу.
— Знаете, перечислять все города — это долгая история. Мы ведь были на машине, так что поездили прилично.
Он снова сел прямо.
— А дольше всего мы с мамой пробыли в Эдинбурге и Оксфорде. Я, кажется, говорил вам тогда в зале, что мне нужно было дать там интервью. В первую очередь в Эдинбургском университете.
— Нет, насколько мне помнится, вы ничего не говорили, — заметил Никольсон. — А я как раз думал, занимались ли вы там чем-нибудь в этом роде. Ну, и как все прошло? Помурыжили вас?
— Простите? — сказал Тедди.
— Как все прошло? Интересно было?
— И да, и нет, — ответил Тедди. — Пожалуй, мы там немного засиделись. Папа хотел вернуться в Америку предыдущим рейсом. Но должны были подъехать люди из Стокгольма и из Инсбрука познакомиться со мной, и нам пришлось задержаться.
— Да, жизнь людская такова.
Впервые за все время Тедди пристально взглянул на него.
— Вы поэт? — спросил он.
— Поэт? — переспросил Никольсон. — Да нет. Увы, нет. Почему вы так решили?
— Не знаю. Поэты всегда принимают погоду слишком близко к сердцу. Они любят навязывать эмоции тому, что лишено всякой эмоциональности.
Никольсон, улыбаясь, полез в карман пиджака за сигаретами и спичками.
— Мне всегда казалось, что в этом-то как раз и состоит их ремесло, — возразил он. — Разве, в первую очередь, не с эмоциями имеет дело поэт?
Тедди явно не слышал его или не слушал. Он рассеянно смотрел то ли на дымовые трубы, похожие друг на друга, как два близнеца, то ли мимо них, на спортивную площадку.
Никольсон прикурил сигарету, но не сразу — с севера потянуло ветерком. Он поглубже уселся в шезлонге и сказал:
— Видать, здорово вы озадачили…
— Песня цикады не скажет, сколько ей жить осталось, — вдруг произнес Тедди. — Нет никого на дороге в этот осенний вечер.
— Это что такое? — улыбнулся Никольсон. — Ну-ка еще раз.
— Это два японских стихотворения. В них нет особых эмоций, — сказал Тедди.
Тут он сел прямо, склонил голову набок и похлопал ладошкой по правому уху.
— А у меня в ухе вода, — пояснил он, — после вчерашнего урока плавания.
Он еще слегка похлопал себя по уху, а затем откинулся на спинку и положил локти на ручки шезлонга. Шезлонг был, конечно, нормальных размеров, рассчитанный на взрослого человека, и Тедди в нем просто тонул, но вместе с тем он чувствовал себя в нем совершенно свободно, даже уютно.
— Видать, вы здорово озадачили этих снобов из Бостона, — сказал Никольсон, глядя на него. — После той маленькой стычки. С этими вашими лейдеккеровскими обследователями, насколько я смог понять. Помнится, я говорил вам, что у меня с Элом Бабкоком вышел долгий разговор в конце июня. Кстати сказать, в тот самый вечер, когда я прослушал вашу магнитофонную запись.
— Да. Вы мне говорили.
— Я так понял, они были здорово озадачены, — не отставал Никольсон. — Из слов Эла я понял, что в вашей тесной мужской кампании состоялся тогда поздно вечером небольшой похоронный разговорчик — в тот самый вечер, если я не ошибаюсь, когда вы записывались.
Он затянулся.
— Насколько я понимаю, вы сделали кое-какие предсказания, которые весьма взволновали всю честную кампанию. Я не ошибся?
— Не понимаю, — сказал Тедди, — отчего считается, что надо непременно испытывать какие-то эмоции. Мои родители убеждены, что ты не человек, если не находишь вещи грустными, или очень неприятными, или очень… несправедливыми, что ли. Отец волнуется, даже когда читает газету. Он считает, что я бесчувственный.
Никольсон стряхнул в сторону пепел.
— Я так понимаю, сами вы не подвержены эмоциям? — спросил он.
Тедди задумался, прежде чем ответить.
— Если и подвержен, то, во всяком случае, не помню, чтобы я давал им выход, — сказал он. — Не вижу, какая от них польза.
— Но ведь вы любите Бога? — спросил Никольсон, понижая голос. Разве не в этом заключается ваша сила, так сказать? Судя по вашей записи и по тому, что я слышал от Эла Бабкока…
— Разумеется, я люблю Его. Но я люблю Его без всякой сентиментальности. Он ведь никогда не говорил, что надо любить сентиментально, — сказал Тедди. — Будь я Богом, ни за чтобы не захотел, чтобы меня любили сентиментальной любовью. Очень уж это ненадежно.
— А родителей своих вы любите?
— Да, конечно. Очень, — ответил Тедди. — Но, я чувствую, вы хотите, чтобы для меня это слово значило то же, что оно значит для вас.
— Допустим. Тогда скажите, что вы понимаете под этим словом?
Тедди задумался.
— Вы знаете, что такое «привязанность»? — обратился он к Никольсону.
— Имею некоторое представление, — сухо сказал тот.
— Я испытываю к ним сильную привязанность. Я хочу сказать, они ведь мои родители, значит, нас что-то объединяет, — говорил Тедди. — Мне бы хотелось, чтобы они весело прожили эту свою жизнь, потому что, я знаю, им самим этого хочется… А вот они любят меня и Пуппи, мою сестренку, совсем иначе. Я хочу сказать, они, мне кажется, как-то не могут любить нас такими, какие мы есть. Они не могут любить нас без того, чтобы хоть чуточку нас не переделывать. Они любят не нас самих, а те представления, которые лежат в основе любви к детям, и чем дальше, тем больше. А это все-таки не та любовь.
Он опять повернулся к Никольсону, подавшись вперед.
— Простите, вы не скажете, который час? — спросил он. — У меня в десять тридцать урок плавания.
— Успеете, — сказал Никольсон, не глядя на часы. Потом отдернул обшлаг. — Только десять минут одиннадцатого.
— Благодарю вас, — сказал Тедди и сел поудобнее. — Мы можем поболтать еще минут десять.
Никольсон спустил на пол одну ногу, наклонился и раздавил ногой окурок.
— Насколько я могу судить, — сказал он, опускаясь в шезлонг, — вы твердо придерживаетесь, в согласии с Ведами, теории перевоплощения.
— Да это не теория, это скорее…
— Хорошо, хорошо, — поспешил согласиться Никольсон. Он улыбнулся и слегка приподнял руки, ладонями вниз, словно шутливо благославляя Тедди. — Сейчас мы об этом спорить не будем. Дайте мне договорить.
Он снова скрестил свои толстые ноги.
— Насколько я понимаю, посредством медитаций вы получили некую информацию, которая убедила вас в том, что в своем последнем перевоплощении вы были индусом и жили в святости, но потом как будто сбились с Пути…