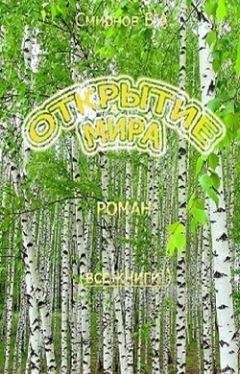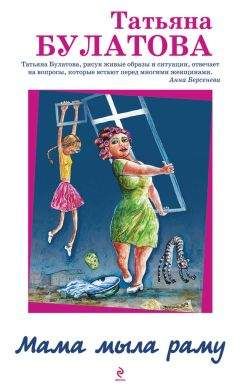— Долой тиранов! Прочь оковы! — рявкнул, кукарекнул Петух, забегая от ненависти и нетерпения в конец песни.
— Владыкой мира будет труд! — завопил не дискантом, загудел фабричной трубой, паровозом на чугунке Володька Горев, размахивая можжевеловым прутом, сам, как прут, а силы, храбрости отменной. — Вперед! Врукопашную!.. Ур — ра — а–а!
— Ур — р–ра — а–а! — подхватили остальные смельчаки, отчаянные.
Со знаменем, с которого стекала и дымилась огненная ребячья кровь, геройская ватага взяла приступом канаву, распахнутый напрочь отвод и с победоносным ревом ворвалась в лес.
НОВЫЙ МИР ПОСТРОИМ!
(книга "пятая")
Совсем недавно в неодетом лесу, залитом апрельским светом, торопливо, словно боясь опоздать, цвели лиловато-бархатные, влажные подснежники, желтяки мать-и-мачехи на коротких мохнатых ножках и памятная медуница, набравшая розовые бутоны под снегом. Острая, что гвозди, редкая лесная трава пробивала всюду слежалые прошлогодние листья, поднимая их на себя. Все молодое под деревьями и кустами, где не было еще тени, спешило ухватить побольше света, тепла, хлебнуть досыта воды, успеть вырасти и отцвести до наступления густого зеленого мрака, потом рассыпать, развеять семена, чтобы другой ранней весной воспрянуть из земли, опять расти и цвести — жить, как положено всему бессмертно живому И так же, как торопились медуница и подснежники, дымила поспешно на ветру в то время в Заполе, как и на известной ребятам пустоши Голубинке, лещина, окутываясь светлым золотом, гудя шмелями и пчелами, глазасто таращилось-цвело волчье лыко, и давно развесила по гнутким голубым ветвям пушисто-белые сережки осина. Только березы, большие и малые, стояли в эти дни по-зимнему голые, мертвенно-бледные. Но и у берез, наперекор обманчивым стволам, краснели, невестились кудрявые макушки и на тонких концах никлых веток увеличивались темные рогульки, открытые однажды в селе Катькой Растрепой и удивившие ребятню: смотрите-ка, они, разини, не замечали, оказывается, до сих пор этих рогулек и их роста… Да что рогульки! В Заполе наверняка озоровали дятлы, как везде. Вглядись в то время хорошенько в снежный атлас бересты, непременно увидишь там и сям отверстия, проколотые остроносыми лакомками. В дырочках тогда копился и скатывался по атласу к потрескавшимся, коряво-пестрым коленям берез дождевыми прозрачнотяжелыми каплями сладкий-пресладкий сок, теплый от нагретой коры, — даровое и самое заманчивое весеннее угощение…
Сейчас была другая пора — половина мая, предлетье, и Заполе было уже другим, и все вокруг было другое.
Очутясь в лесу, ребячья ватага сразу замолкла и все перезабыла. Вылетели из голов красные флаги и знамена, и тот флаг, что они собирались вбить с размаху, колом, в барском поле на пустыре, распаханном и засеянном мужиками, чтобы все видели и знали, чья нынче эта земелька. Забылось и багряное боевое знамя, которое горело и дымилось их жаркой кровью, отданной без сожаления, до последней капельки, потому что она, ребячья кровь, была и кличем борьбы, и семенами грядущего, и громом мести, как пелось-сказывалось в полюбившейся им питерской песенке Володьки Горева, которую они только что орали во все горло. На какой-то срок запамятовалось даже, зачем у Кольки Сморчка Лубянка с яйцами, а у Шурки Кишки в руках губастый новехонький горшок-ведерник, и почему у всех — Володьки, Шурки, Андрейки Сибиряка, Кольки, Яшки Петуха и Аладьиного Гошки — волочатся сзади по земле гибкие можжевеловые хлысты, заткнутые под ремни, как сабли. В круглых, радостно бегающих глазах, стриженых и лохматых чердаках, в разбереженных молодецких сердцах существовало одно Заполе. Еще не пришло время грибов и ягод, когда глаза ничего не видят, кроме белоуса, мха, кочек, выискивая добычу, — нынче можно было до устали таращиться вокруг, удивляться и радоваться тому, что видишь.
Это тебе не пустошь Голубинка за ригами и Гремцом, поросшая кое-где тонкими, как белые и голубые ниточки, березками и осинками, и даже не Глинники с можжухами, ямами и озерами, с карасями, с редкими соснами и елками. Это, брат, взаправдашний, самый дальний-раздальний, глухой лесище, где водится прорва зайцев, русаков и беляков, можно встретить барсука, лисицу, а то и самого серого волка. К тому же мамки божатся, крестятся, что в Заполе живет нечистая сила, лешие и болотные кикиморы, им тут самое раздолье. Прикидываясь, оборачиваясь знакомыми дедами и бабками, они уводят простаков неведомо куда. Все это, конечно, несусветные глупости, темнота малограмотная, суеверия, прав Григорий Евгеньевич, и в книжках так пишут. А уж книжечки-милашечки и бог-учитель никогда не обманывают, говорят всегда одну истинную правду.
Лешие, болотные кикиморы, разные лесовики — чепуховина, а все-таки немного боязно, особенно первое время. Ведь и без нечисти здесь можно заплутаться, если не знаешь леса, потому что Заполю нет конца. Ну, есть, но какой? Вправо — семь верст до чугунки. Столько же, наверное, поперек Заполя до ближней деревеньки, куда ребятня еще не добиралась, но слыхала от отцов и матерей, коли идти по грибы, по ягоды все прямо, никуда не сворачивая, через Водопои и Ромашиху, станет слышно, как за лесом перекликаются в Ташлыках петухи и голосят-лаются бабы. А если махнуть из Глинников, от воротец влево, на старые Большие житнища, продраться через заросли волчьих ягод, откроется Великий мох, что бескрайнее поле, куда больше барского. Там, по мягко-рыжим и жестко-седым чмокающим кочкам уймища всегда гонобобеля и клюквы, водятся стаями куропатки и живут посередке, в болотине, журавли. По дальнему краю моха, в постоянной, точно гарь после пожара, дымке начинается черной кромкой сызнова лес, слышно, до самого уездного города и даже много дальше.
И хотя мальчишки, кроме питерщичка Володьки и маленького Гошки Аладьина, бывали множество раз в Запо-ле, считали себя тут завсегдатаями, потому как уже неплохо знали ближний сельский лес, родной, поделенный на участки и полосы со смешными, понятными и непонятными прозвищами, и редко блудились, сейчас они, ребята замирая, глядели во все глаза по сторонам, словно очутились тут впервые, и некоторое время говорили промежду себя чуть ли не шепотом. И не столько от робости, сколько от радостного счастья и волнения.
Отовсюду веселыми этажами до неба поднимались березы, осины, ели и сосны. В белую кипень облаков упирались их зеленые и почти синие крыши, точно кровельного железа, выкрашенные свеже блестящей масляной краской в два цвета и множество оттенков. Из-под крыш выглядывали такие же сине-зеленые балконы и горницы, резные, с оконцами в переплетах, как бы из мелких, всякого фасона стеклышек — то небо и солнце радужно проглядывали сквозь листву и хвою, и не было ничего краше этих оконцев и блистающего в них утреннего света. Кудреватые макушки деревьев, сливаясь округло, сияли изумрудно-зеркальными и бирюзовыми неправдоподобными шлемами и шишаками, похожими одновременно на стеклянные разноцветные пузыри, которыми любили украшать коньки своих кружевных тесовых светелок богатые питерщики, когда, прикатив на лето в деревню, строились заново.
Густо свисали долу, карнизами, ветви. К ним, вторым, средним этажом, наперегонки тянулся вверх подлесок, — орешник, рябина, ольшаник, вперемежку с дочками-березками, дочками-елочками, осинками, сосенками, одна другой моложе и приятнее, отличительнее от родительниц, каждая похожа только на самое себя. И еще причуда: в сосняке всюду колюче ощетинились годовалые и побольше елочки, как ежи, а под разлапо-седыми елями нигде сосенок не росло. Почему, неизвестно. Зато под сухой, вывороченной ураганом елью, как сквозь дырявую крышу, тянулись на свет, к солнцу, сразу две березки. На высоких кочках торчали из мха так называемые кошачьи лапки, белые и розоватые, с крохотными подушечками, точь-в-точь ровно у настоящих кошек, когда те крадутся за добычей и прячут в такие подушечки свои острые, наготове, когти. А вовсе у земли, вразброс, темно блестели глянцевито-твердыми, овальными, будто ноготки, листочками низкорослые кусты брусники. Она цвела молочнорумяными крохотными кувшинчиками, сложенными как бы грудками на продажу. Черника и гонобобель, то есть голубика, форсили по-своему, каждый цветок красовался отдельно. У черники — в пазухах листьев, потому, должно быть, цветки были бледно-зеленоватые, с розовыми слабыми разводами; у голубики совсем невзрачные, мелкие и белые, прямо нечего смотреть, а погодите-ка, отцветут, и на месте их окажутся ягодки что надо, крупные, сладкие, с сизым налетом, как есть голубые.
Вот какое царство на удивление и радость окружало ребятню, гляди не наглядишься.
— Баобаб! — восхищенно пробормотал Володька, запрокидывая голову, оглядывая с восторгом и почтением высоченный, раскидистый дуб, редкостный в здешних местах, он рос на Долгих перелогах могуче и одиноко.