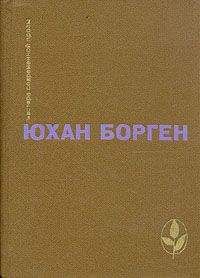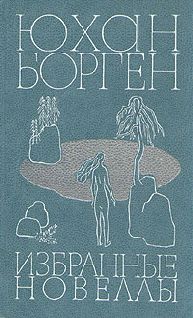Воздух был напоен словами, теми, что Вилфред не мог ей высказать.
Он протягивал ей через стол салатницу, и простое «пожалуйста» застревало у него в горле. После обеда он бродил в саду под деревьями, вновь упиваясь словами народных песен, таинственных и волнующих, смысл которых наполовину от него ускользал.
У Скамелля пять сыновей.
О жизни их неправой
Среди соседей богача
Идет худая слава.
Что-то нравилось ему в этих строчках, в не совсем понятной «жизни их неправой», в грозном и мрачном «идет худая слава». А когда он, томясь, кружил вокруг купальни, зная, что Кристина находится внутри, другие строки из песни об Эббе, сыне Скамелля, упрямо и навязчиво напоминали о себе.
За облаками спит луна,
А Эббе все не спится.
Идет он к йомфру Люсьелиль,
Идет в ее светлицу [6].
Это имя, Люсьелиль, завораживало Вилфреда своим звучанием, Люсьелиль — это Кристина, которую он будет защищать, и та, которой он насильно овладеет в светлице или в купальне.
Она была его Люсьелиль! Вилфред бродил, твердя это певучее имя. У имени был привкус меда и ванильного крема, от него рождалось такое же чувство, как когда смотришь сквозь красное стекло! Вилфред убаюкивал себя им, засыпал в нем, как в мелодии, сотканной из сплетенных лиан, и пробуждался с ним, и тогда оно звучало, как призывная фанфара. В этом имени был драматизм, воображение подхлестывало этим именем образ Кристины, и он становился кровавым, зловещим, трагическим.
В лесу Вилфред встретил Эрну. На ней было голубое платье, прохладное, как колосья овса, от него пахло стиркой и юным телом. Его поразил этот контраст. После царства пламенно-красного на него повеяло свежестью голубизны.
Она сказала:
— Ты теперь совсем не приходишь к нам.
Они стояли, почти касаясь друг друга, в пронизанном светом лесу, где тропинки круто сбегали вниз к морю. И от близости Эрны ему вдруг захотелось вырваться из плена желания и необузданных мечтаний.
Она сказала:
— Из-за этой твоей тети…
Оба стояли, расшвыривая ногами сучья и хворост. Вилфреду вдруг стало стыдно. Почему она сказала «тетя»? Что это за дар у женщин, у матери, у Эрны (одна — дама уже не первой молодости, другая — девчонка), что это за дар угадывать то, в чем ты сам себе не признаешься до конца, хотя это наполняет твою жизнь? И снова ему пришло на память слово «инстинкт».
Она сказала:
— Мы могли бы вместе поехать на острова…
— Мы? — неопределенно переспросил он. — Всей компанией?
— Мы, — повторила она. Разговор не клеился. И вдруг она заплакала.
— Что с тобой, Эрна? Отчего ты плачешь?
Она отвернулась от него и пошла прочь. Он стал подыматься следом за ней по крутой тропинке. Спокойная влюбленность, повторявшаяся из лета в лето, вдруг, как бы накопившись за много лет, слилась в огромную волну сострадания, стыда, удивления и вины. Это не было предусмотрено планами Вилфреда и застигло его врасплох. Освещенный лес вокруг стал вдруг тем, чем он был на самом деле, а между стволами блестело море и пахло хвоей, муравьями и горным пастбищем. Чары развеялись.
Они очутились возле старинного, сложенного из камня стола. Это была ничейная земля на границе двух частных владений.
Эрна села на деревянную скамью у стола. Вилфред не решился сесть рядом с ней и, обогнув стол кругом, опустился на высокий пень, нечто вроде табурета, как раз напротив нее. На темном столе валялись маленькие острые камешки. Дети использовали их вместо грифелей, когда играли на этом столе в «крестики и нолики». А лучшей доски, чем этот стол, вообще было не сыскать.
Эрна не смотрела на Вилфреда и что-то чертила на столе острым камешком. Он тоже взял в руки маленький камешек. Казалось, между ними возник молчаливый уговор. Почти не сознавая, что он делает, он нацарапал: «Я люблю». Он сам не знал, что при этом имел в виду, и сидел, уставившись в написанные им слова.
И вдруг она подняла на него блестящие глаза.
— Я написала три слова, — сказала она, заслонив свою надпись левой рукой.
— Я тоже! — сказал он и быстро дописал: «Эрну», — делая вид, будто просто обводит какое-то слово еще раз.
— А можно я посмотрю, что ты написал?
— Можно, если ты покажешь, что написала ты…
Они медленно встали и обменялись местами. Каждый обошел стол вокруг, не спуская глаз с другого. Оба одновременно остановились и склонились над столом.
— Вилфред! — простонала Эрна и побежала ему навстречу вокруг стола. Они упали друг другу в объятия неожиданно для самих себя и застыли, прижавшись друг к другу. Он провел губами по чистым, как лен, девичьим волосам, и его рот наполнился ароматом голубизны. Ни один не смел отстранить голову, губы каждого медленно ползли по щеке другого, пока не встретились в поцелуе. Ее губы были чуть жестковатые, шершавые и соленые от морской воды. Это был поцелуй, который не имел развития и продолжения, это просто была минута, к которой они стремились через все летние месяцы, проведенные вместе. Ни тело, ни руки не участвовали в поцелуе, только губы слились.
Так же внезапно они отстранились друг от друга и замерли в смущении. Потом снова оба разом посмотрели на стол: теперь каждый мог видеть обе надписи одновременно. Они снова неловко рванулись друг к другу, но не обнялись, а просто стояли близко-близко, ее макушка касалась его подбородка.
— Это правда? — выдохнула она. — Правда, что ты любишь меня?
А он выдохнул в ответ:
— Правда, что ты любишь меня?
И оба в один голос начали повторять: «Правда! Правда!» — пока слова вообще не утратили всякий смысл, и оба замолчали, смущенно и счастливо улыбаясь. Она спросила:
— Значит, мы помолвлены?
Слово вызвало трепет в его душе, неожиданный, пронзительный.
— Да, мы помолвлены, — решительно сказал он и снова устремился к ней. Но она отошла в сторону и торжественно сложила загорелые шершавые от соли девичьи ладони.
— Благодарю тебя, боже! — тихо сказала она.
— Почему ты благодаришь бога?
Обернувшись к нему всем корпусом, она ответила:
— Потому что об этом я молила бога с того лета, когда мы встретились здесь с тобой в первый раз.
Чудовищная невинность!.. Рука в руку они молча обошли маленькую лужайку вокруг стола. Они почти не глядели друг на друга, они смотрели на море, сверкавшее между вершинами невысоких сосен на склоне холма, смотрели на короткую торчащую травку, по которой они брели, смотрели на свои ноги, ступавшие по этой травке. Их счастье было таким полным, что они не осмеливались говорить о нем, а обменивались редкими словами о каких-то посторонних мелочах. Они были так погружены в свое счастье, что только изредка позволяли себе какое-нибудь сдержанное проявление нежности: прижаться лбом ко лбу, осторожно провести рукой по волосам. Все для них было полно ожидания. Они были всемогущи, могли ждать, ждать всего от жизни, которая простиралась перед ними, долгая и бесконечная.
Принудительная невинность! В них пело воспоминание обо всех минувших летних месяцах. В них пело детство. Оно окрасило их любовь в светло-голубой цвет и держало их души в сладком плену. В этом раю они резвились когда-то, здесь играли в классы, чертя подошвами по непокорной траве. Теперь этот рай возродился вновь. И если в этом раю и жил змей, он в страхе притаился где-то поодаль, в стороне от светлой лужайки, по которой они бродили — двое детей, рука в руку, душа в душу.
Недолговечная невинность… Точно их притягивал магнит, кружили они вокруг стола и вдруг одновременно остановились и увидели, что они написали. Оба почувствовали прилив стыдливой гордости от собственной отваги. И когда их взгляды вновь встретились над столом, оба залились жарким румянцем: только в эту минуту их слова стали правдой, признание стало полным, стало опасным…
Обманчивая невинность!
Крадучись, приблизились они теперь друг к другу не с открытым, бесплотным объятием, как в первый раз, а пламенея внутренним жаром. И теперь их ноги, руки, губы слились не в прежнем неумелом порыве: то, что было лишено плоти, вдруг обрело плоть и заполнилось ею настолько, что все поплыло перед их глазами, и они упали на жесткую траву.
— Нет, нет! — прошептал он, не разжимая объятий.
— Да, да! — простонала она, прижимая его к своему худенькому девичьему телу. Все испуганные змеи плотоядно выглянули из райских кущей, вытянув свои жала.
Мгновение — и оба одновременно выпустили друг друга из объятий, точно повинуясь общей воле. Теперь они, задыхаясь, стояли рядом и глядели друг другу в глаза без стыда, но не без страха, полные новым признанием, которое изменило все. И когда они снова побрели по тропинке, они уже не взялись за руки. Теперь на каждой клеточке их трепещущих тел громадными буквами было написано: «Не трогать — смертельно!» Теперь они, задыхаясь, спускались по узкой тропинке, и, стоило им случайно задеть друг друга пальцами или локтем, их прикосновение высекало искры, от которых мог загореться весь окружающий лес.