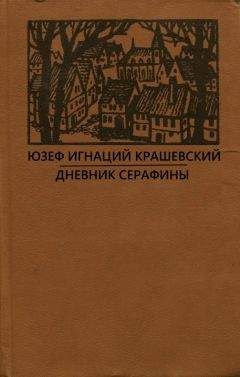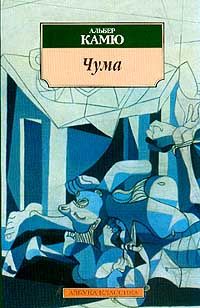У женщин, ведущих светскую жизнь, при которой одно впечатление непрестанно сменяется другим, даже любовь не может быть такой, как у женщин-затворниц, — этот цветок, чтобы распуститься во всей своей красе, нуждается в тишине и уединении. В сутолоке житейской, полной суеты и разнообразных встреч, редко увидишь, а то и вовсе не найдешь истинно пылкую страсть и тем паче постоянство — каждый бутон, не успевая распуститься, опадает, сбитый ветром. Но в ненарушимой тиши уединения, оставленный наедине со своими мыслями и сердцем, человек легко впадает в экзальтацию и любое переживание у него разрастается, обретает силу необычайную. Встречаемые им люди оказывают более сильное впечатление, его чувства глубже проникают в сердце, мысль работает живее. Святые, пророки, аскеты не случайно жили в скитах, в пустынях, в монастырях — мирская жизнь не позволила бы им подняться до тех высот, коих они достигали, оставаясь наедине с богом и с собою. И любовь человеческая, земная повинуется тем же непреложным законам, она для своего роста также нуждается в затворничестве, в одиночестве, в отшельнической келье, сооруженной из тишины и размышления. Итак, нетрудно понять, что Сара, совершенно одинокая в родительском доме, в этой келье средь шумного города, замкнутая наедине со своей молодостью, свежестью чувств и пылким сердцем, предавалась грезам, проводя дни и ночи в любовных мечтах.
Она вздрагивала, когда Станислав входил в дом, различала его шаги среди уличного шума, они словно бы отдавались эхом по всему дому, она предугадывала его приход и, прижимаясь своей головкой, увенчанной черными косами, к оконному стеклу, бывала уверена, что увидит его на улице, — настолько чувства соединяли ее с каждым шагом любимого. Однако со стороны Станислава она встречала лишь холодное безразличие — спокойное, приветливое, сочувственное, но такое холодное! Ей казалось, что никогда его сердце не забьется чаще ради нее. Он же видел в ней еще ребенка, но главное, главное — не забывал, что она еврейка!
С того вечера, когда Абрам явился к нему на чердак, старик больше не показывался, а хозяин дома и его жена обходились с ним куда любезней. Видимо, они сумели оценить юношу не только по результатам его уроков — впрочем, весьма заметным, ибо понятливая девушка необычайно много из них почерпнула, — но и за его благовоспитанность, скромность и благородный характер. Вначале-то они держались высокомерно, чуть ли не презрительно, но мало-помалу стали его уважать и считаться с его мнением. Иначе и быть не могло — детей Израиля, изгнанников, разбросанных по всему свету, бог наделил особым пониманием людей, с которыми они в своих странствиях постоянно сталкиваются, и Давид, будучи вдобавок купцом и постоянно имея дело со все новыми людьми, был недюжинным знатоком характеров. Он почти сразу понял и оценил достоинства Станислава, его благородство и как-то невольно склонил голову перед тем, кого нанимал и чью бедность знал лучше, чем кто-либо. Высшие, избранные натуры внушают уважение к себе, вынуждая даже недругов признать их превосходство.
И постепенно положение Стася в этом доме изменилось к лучшему, быть может, не без влияния Сары, не скрывавшей своего преклонения перед учителем, но скорее вследствие неизбежного хода вещей. Станислав чувствовал себя все легче, все свободней — купец, при всей своей расчетливости, несколько раз даже менял условия их договора на более выгодные для Станислава, опасаясь лишиться учителя. Давид пригодился Шарскому и в литературных делах — служащие типографии, взявшие его рукопись для просмотра, узнали, где он проживает, и прибежали расспросить хозяина дома о постояльце. Купец высказал о нем как о наставнике своей дочери самое лестное мнение и, в свой черед выведав у них, почему они о Шарском спрашивают, и услыхав о рукописи, посоветовал ее приобрести. Вечером Давид рассказал об этом жене и Саре, а на следующий день во время урока красавица ученица не могла удержаться, чтобы не спросить Стася, правда ли то, что она о нем слышала.
Станислав сперва удивился, откуда ей об этом известно, но затем, рассмеявшись, с готовностью признал свой грех.
Сильно робея, Сара спросила его, не может ли он дать ей польские книги, не посоветует ли, что читать. Еще более удивленный таким желанием, Шарский посмотрел в ее черные глубокие глаза, в которых светилась такая мольба, что отказать было невозможно. Он пообещал не только книги, но и помощь в их чтении.
Сара заалелась от радости, улыбнулась, но даже не посмела поблагодарить иначе как взглядом, который, пожалуй, впервые взволновал молодого человека, ощутившего силу ее глаз.
— Да я просто ребенок! — сказал он себе, придя в свою каморку и осознав, что не может избавиться от этого взгляда, маячившего перед ним. — Почему ее черные глаза глядели на меня так странно? Неужели это душа, способная меня понять? Неужели это сердце может полюбить? Но ведь она женщина! Это девочка, которая в жизни еще сто раз изменит, от которой нечего ждать постоянства! Ох, и глупое же я дитя! Так легко привязываюсь, прикипаю душою ко всем. Пожалуй, доведись мне расстаться с этим неопрятным домом, с этой еврейской семьей, мне было бы жаль покидать их и Сару!
Он сам себя высмеял, однако, как ни старался вспоминать Аделю, отвлечься, углубиться в прошлое, ничего не получалось, — тихий, глубокий, выразительный взгляд Сары застрял в его сердце, и на память приходили старинные стихи, сравнивавшие взгляд женщины со стрелою. Но ему еще не верилось, он не мог допустить, что в его странном состоянии таится зародыш истинного чувства, — он объяснял все это болезненной впечатлительностью поэта, случайной причудой. И в необычном волнении, которого сам не понимал, он сел сочинять одну из тех тоскливых песен, какими уже исписал немало страниц, невольно вставляя в них черные очи, тихий взор, молчаливую грусть и загадочный образ еврейки, витавший перед его глазами.
Так он и уснул, выронив перо и погрузившись в свои мысли, и, когда веки его сомкнулись, он увидел себя в Мручинцах, в саду, он с Аделей шли под сенью деревьев… Но — о чудо! — оглядываясь, он всякий раз видел одетую в ее платье, улыбающуюся ему Сару. Напрасно Стась, понимая, что это сон, гневно старался отогнать назойливое виденье, восстановить истинную картину прошлого — вместо Адели рядом с ним все время шла прелестная еврейка, устремив на него черные свои глаза.
Жизнь Станислава текла однообразно и тихо, подобно тому как вращаются стрелки часов, с виду неподвижные, а на самом деле непрестанными и незаметными шажками идущие все вперед и вперед. Его стихи, проданные за упомянутую нами огромную сумму, наконец начали печатать в знаменитой типографии соперников Манеса Ромма, у неуловимого Двожеца. Каждый день на чердак Давидова дома приносили корректуры с невероятными искажениями мыслей и слов поэта; правя их и раздражаясь, Станислав проходил уже не первое испытание стойкости в борьбе с тысячами опечаток, плодившихся одна из другой.
Понемногу росла и скромная слава нашего писателя в кругу пока еще узком, расходясь благодаря его товарищам по городу и кое-кому даже начиная колоть глаза. Опубликованные в Альманахе стихи, которые теперь должны были появиться в более объемистом отдельном сборнике, уже создали ему известность: с ним старались познакомиться, на него смотрели с удивлением, как смотрят на диковинного зверька или на невиданное причудливое растение.
Не раз такие взгляды вгоняли юношу в краску и причиняли неловкость — он чувствовал в них больше любопытства и недоумения, чем симпатии. Чаще всего его встречали насмешливой полуулыбкой, как человека, страдающего легким умственным расстройством или отмеченного каким-то чудачеством. Никто не ценил отваги, с которою он ринулся на тернистый путь, сулящий в награду лишь некоторую известность имени да множество вседневных жертв, равнодушие окружающих и непризнание заслуг. Каждый встречный имел для будущего литератора в запасе какой-нибудь совет, вроде средства от зубной боли, — у одного был готовый сюжет для поэмы, у другого идея романа, у третьего план грандиозного произведения, которое необходимо написать и лишь оно одно сможет прославить имя автора, тот указывал замечательный образец для подражания, этот предостерегал, чего следует избегать, и каждый мнил, что он способен направить поэта на должный путь.
Однажды утром, весь запыхавшийся, ввалился Щерба в его каморку и потребовал, чтобы Стась живее одевался, — лицо Павла сияло, он потирал руки.
— Чего тебе от меня надо, Павел? — в тревоге вскочив с постели, спросил Станислав.
— Я пришел к тебе с весьма загадочным, но многообещающим приглашением князя Яна.
Шарский весь вспыхнул, вспомнив это имя, названное Ипполитом при виде молодого щеголя, сидевшего с Аделей в экипаже.
— Что же он от меня хочет? — спросил Станислав довольно неприязненным тоном.