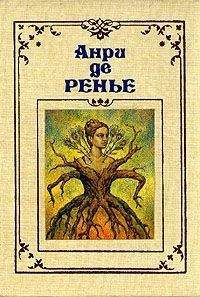— Это доказывает, — отвечал г-н де Портебиз, — только то, что господин Юберте любит, когда ему прислуживает хорошенькое личико.
— Ах, сударь, — кричал аббат, отбиваясь, — не слушайте этих господ; я взял к себе в дом Фаншон, когда она была вот какого роста…
— И чему, как вы думаете, обучил он малютку? — визжал Клерсилли. — Шитью, уборам, уходу за бельем и за домом или стряпне? Нет, сударь, вы ни за что не угадаете, — она изучает хореографию.
— Правда, — вмешалась м-ль Дамбервиль, — что Фаншон танцует восхитительно.
— И что же, — сказал аббат, покорившись, по-видимому, насмешкам, — разве это не лучше, чем заставлять ее изнывать за иглою или над домашним хозяйством? Глаза у нее не будут красные, а пальцы не будут исколоты иглою. Танцы благоприятствуют здоровью и возвышают красоту тела. Они изощряют и ум; чтобы хорошо танцевать, нужен ум, и у Фаншон его много. Благодаря танцам женщина сохраняет известное положение в свете, и мужчины благодарны ей за то, что она изображает перед ними пастушек, принцесс и богинь. Это побуждает их обращаться к ней как к одной из этих фантастических личностей. Разве нас не оценивают сообразно нашей внешности? И те образы, с помощью которых мы выражаем высшее сладострастие, высшую трогательность и высшее благородство, вызывают к нам общее благоволение и поднимают нас в воображении всех. Господин де Портебиз будет постоянно видеть в мадемуазель Дамбервиль Ариадну. Разве вы со мною не согласны, сударь?
— Конечно, согласен, тем более что случай дал мне честь познакомиться с мадемуазель Фаншон. Она прекрасна, и была ко мне столь добра, что на днях, в ваше отсутствие, целый час показывала мне редкости вашего кабинета. Она поведала мне историю большой собаки и кувшина молока.
— Как, — воскликнул аббат с громким хохотом, — вы, сударь, и есть тот молодой дворянин, о котором Фаншон не перестает говорить и который так, по-видимому, интересовался моими медалями и моими древностями? Ваш художественный вкус удваивает мое уважение к вам, и я отнюдь не думал, чтобы этот неведомый любитель был родной внучатный племянник бедного господина де Галандо, которого близко знал я когда-то. Но Фаншон позабыла ваше имя. С маленькой ветреницей это случается. Простите ей ее молодость.
— Берегитесь, аббат, — сказал де Бершероль. — Балет изощряет ум девушек. У вас отнимут этот алмаз. Маленький домик недолго обставить.
— Так что из этого? У меня, сударь, будет место, куда пойти поужинать. Моя старость не ревнива, и я никогда не думал запрещать Фаншон составить счастье хорошего человека.
Все рассмеялись, и аббат вместе с другими. Он облокотился о стол, меж тем как лакей клал ему на тарелку крылышко пулярки.
— А чем это худо? — продолжал аббат. — Предположите, что Фаншон выросла бы в доме родных, которые были люди бедные; разве она избежала бы общей участи девушек — глупого или жестокого мужа или какого-нибудь грубого или лживого соблазнителя? Благодаря мне она, по крайней мере, узнает любовь и страсть при лучших обстоятельствах. Разве не лучше во всех отношениях, что, вместо того чтобы составить удел какого-нибудь грубияна, она достанется честному, тонкому и богатому человеку, вроде вас, господин де Бершероль, который будет относиться к ней с обычным вниманием, будет с нею нежен и любезен? Видя красоту в руках простолюдинов и жителей предместий, я испытываю почти то же чувство, которое переживал некогда, находя в руках итальянских мужиков благородные медали, обнаруженные в земле их плугом или отрытые их киркою и едва блестевшие на их землистых ладонях.
— Не забудьте, сударь, — со смехом повторила м-ль Дамбервиль, обращаясь к г-ну де Портебизу, — что у аббата есть принципы. И они даже превосходны. Лучший из них тот, что он думает то, что говорит, и при случае готов это выполнить на деле. Его натура так великодушна, что мирится со всеми противоречиями. Это — мудрец. Он набожен, честен и чист и будет слушать рассуждения господина де Парменнля о религии, которые отвратительны, или цинично-физиологические разговоры господина Гаронара. Вольные словечки господина де Бершероля или господина де Клерсилли не вызовут в нем удивления, и он мог бы увидеть меня лежащею рядом с вами, сударь, под носом у господина де Герси, и все-таки он доел бы свое куриное крылышко.
Кавалер, заслыша свое имя, поднял голову от тарелки и едва не подавился тонкою косточкою. Но он был привычен к шуткам и выходкам м-ль Дамбервиль и чаще всего делал вид, что ничего не слышит. Косточка прошла; Герси выпил большой стакан вина и снова принялся за еду, кладя в рот двойные куски.
— Мадемуазель Дамбервиль сказала правду, сударь, — продолжал аббат, тяжело вздохнув. — Я довольно добродушный наблюдатель окружающего. Природа вложила в меня жажду любви, но моя внешность делала меня к ней мало пригодным. Я понял это и попробовал от нее отвлечься; я принял сан, который меня от нее избавил и охранял меня от смешного зрелища, которое встречается в свете, когда тебя не любят или ты любишь невпопад. Мой недостаток благодаря этой военной хитрости превращался в добродетель. Не будучи вынужден интересоваться никем в частности, я попытался заинтересоваться всем. Печальная необходимость, сударь, изливать на окружающее глубоко внутреннее чувство и растрачивать его, не получая взамен. Я полюбил землю и природу, животных и людей, времена года и их плоды — словом, всю вселенную в ее настоящем и ее прошлом.
Не смея притязать на обладание красотою в живом теле женщины, я искал ее в различных и рассеянных формах — в лицах прохожих, в улыбках танцовщиц и актрис, в рельефе медалей, в профилях камей, в позах статуй. И могу, сударь, сказать, что я был награжден за мои труды. В моем воображении создалась определенная фигура, которая будет жить, пока я буду жив. Что я говорю, самая земля была ко мне благосклонна, так как однажды она показала мне точный образ моего вожделения. Древняя латинская земля выдала мне свое лучшее сокровище в виде сидящей Венеры, которую я открыл и которая сейчас находится в королевском собрании. Пойдите посмотрите на нее, сударь, то была моя единственная любовь.
Аббат Юберте остановился. Его слушали со вниманием. Белый котеночек м-ль Дамбервиль, пробравшийся в залу, вскочил на стол. Побродив с минуту, он сел на задние лапы, облизал переднюю лапку и три раза провел себе ею по мордочке.
— Так, сударь, — снова сказал аббат, — ожидал я старости. Она пришла; я желал ее. Долгие годы подчинял я мои чувства строгой дисциплине. Теперь я уже не боюсь никаких уклонов с их стороны. Они требуют от меня так немного, что я не колеблюсь удовлетворять их. Вот почему вам, может быть, и покажется, что я отдаюсь им. Но это не так, сударь. Я пользуюсь законным правом. Фаншон — одно из моих преимуществ. Мадемуазель Дамбервиль — другое; потому что, разве это не исключительное счастье моих лет — мирно наслаждаться красотою их юности?
Аббат Юберте говорил долго. На его полном лице выступили крупные капли пота. К тому же в запертой зале жара становилась чрезмерною. Порою на обоих концах его слышалось переменное журчание и падение воды из фонтанов в бассейны.
— Вам следовало бы взять пример с аббата, мосье Гаронар, — лукаво сказал г-н де Клерсилли художнику. — Вы должны бы подражать его скромности.
И г-н де Клерсилли принялся рассказывать, как г-н Гаронар намеревался было, без дальних церемоний, использовать г-жу де Кербиз, портрет которой он писал. На следующий день весь город должен был узнать об этом, так как г-жа де Кербиз сама разносила эту историю повсюду.
— О, — холодно ответил г-н Гаронар, — это не в первый раз случается. У меня в мастерской найдется более дюжины холстов, перевернутых и незаконченных по той же причине.
— Я отказываюсь понимать эту госпожу Кербиз, — сказала м-ль Дамбервиль. — Гаронар недурен собою. К тому же он богат, а какая-нибудь госпожа де Кербиз вовсе не так уже озабочена честью своего мужа. Не правда ли, господин де Бершероль?
Г-н де Клерсилли, который наряду со всеми любовницами г-на де Бершероля притязал также и на г-жу де Кербиз, почел своим долгом принять скромный и многозначительный вид.
— Послушайте, Гаронар, как вы принялись за это, черт возьми? Я считал ее более сговорчивою?
— Деньги, — наставительно сказал г-н де Бершероль, словно продолжая свою мысль, — необходимы в любви. Они нужны. Конечно, деньги не все, а когда они все, то это довольно отвратительное зрелище, особенно когда одна только власть денег соединяет красоту с уродством. Это отталкивает. Но деньги превосходное орудие, только бы им приходилось помогать сносной внешности. Они одаряют ее внезапным очарованием и дают вам средство иметь всех женщин, которых желаешь, вместо того чтобы иметь только тех, которые сами желают. Деньги ускоряют, облегчают и придают страстям счастливую быстротечность. Они помогают вернее различить тот единый лик, что кроется за сотнею масок любви.