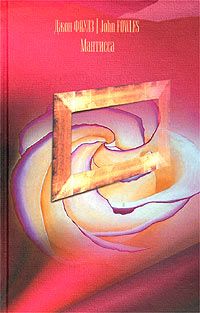— Конечно в голове, милый.
Он нащупывает ее правую ладонь. Их пальцы переплетаются. Теперь они лежат молча, погруженные в воспоминания.
— Вот что мне показалось неверным сегодня. Я хочу сказать, всего два раза. Мы же не можем считать interruptus[107]. — Она не отвечает. — В среднем у нас бывает три, правда ведь?
— На самом деле, с рецидивами, три и три десятых, дорогой.
— Два раза — это не очень хорошо.
— Ну, мы же можем это компенсировать.
— Все дело в литературных кусках. Когда мы на них застреваем, мы забываем о самом существенном.
— Мой дорогой, мне не хочется тебе противоречить, но, если учитывать, кто я такая, я не могу совершенно от них отказаться.
— Ангел мой, я понимаю — ты не можешь. Просто…
— «Просто» — что, дорогой?
Он поглаживает ее спину.
— Честно говоря, я думал об одной из твоих сегодняшних вариаций. — Он похлопывает ее пониже спины. — Разумеется, она была выстроена весьма умело, как всегда. Но я не мог не задуматься, соответствует ли она контексту.
— Какую из вариаций ты имеешь в виду?
— Когда ты притворилась психоаналитиком. Вся эта ерундистика про мой вуаеризм и эксгибиционизм. Если откровенно, я тогда же решил, что это — перехлест. В данных обстоятельствах. И самую малость похоже на удар ниже пояса. Особенно там, где ты толкуешь про пристрастие к матери.
Она приподнимается на локте:
— Но, Майлз, дорогой мой, кто же совсем недавно говорил, что готов прямо-таки съесть мои груди?
— Зачем же нам прибегать к таким далеко идущим выводам лишь из-за того, что в виде сестры Кори ты завела себе пару потрясающих титек?
— Только в виде сестры Кори?
— Да нет конечно. — Он касается рукой тех, что сейчас так близки к нему. — В виде вас обеих.
— Майлз, я слышала это совершенно четко. Ты сказал «в виде сестры Кори».
— Оговорился.
Она опускает взгляд на собственную грудь:
— Если честно, не вижу никакой разницы.
— Любимая, и в самом деле, никакой существенной разницы нет.
Она поднимает голову:
— Как это — «существенной»?
— Только в крохотных нюансах. Да и потом, не можешь же ты ревновать к самой себе? Просто в ее образе ты самую малость повнушительней и посмелее. Кажешься еще более бесстыдной и вызывающей, чем есть. — Он протягивает руку и ласково гладит предмет дискуссии. — Твои нежнее и утонченнее. Изысканнее. — Она снова изучает их нежную изысканность, но теперь с некоторым сомнением во взгляде. — Дай-ка я их поцелую.
Она ложится, снова опустив голову ему на плечо.
— Все это не важно.
— Ты тщеславная глупышка.
— Теперь я жалею, что позволила тебе уговорить меня принять образ чернокожей девушки.
— Ну, моя дорогая, мы же договорились. Мне и правда необходимо, чтобы ты являлась еще и в другом образе хотя бы затем, чтобы я мог вспомнить, как божественно ты выглядишь в собственном. В любом случае главное мое соображение заключается в том, что, как бы ни соблазнительно было обвинять меня в инцесте и прочих грехах, у нас с тобой есть масса более важных вещей, которыми следует заняться. У нас сегодня были длиннющие периоды, где нет ни малейшего намека на секс. Порой я чувствую — мы утрачиваем всякое представление о приоритетах. Нам следует вернуться к духу того совершенно замечательного времени, — где же это было, а? — когда мы почти ни слова не произносили.
— В номере восьмом.
— Он был так великолепно структурирован, весь такой плотный, серьезный, безостановочный — ну, ты понимаешь. Конечно, мы не всегда можем достичь таких высот, но все же…
— Кажется, я вспоминаю, что в том эпизоде была столь же долго сестрой Кори, как и самой собой.
— Разве, любимая? Совсем забыл. — Он похлопывает ее по спине. — Как странно. Поклясться мог бы — все время была только ты.
Воцаряется молчание. Эрато лежит, по-прежнему тесно к нему прижавшись. В ее позе изменилось лишь одно: теперь ее глаза открыты. На миг можно было бы предположить, что она затаила в душе обиду. Но очень скоро выясняется, что это предположение абсолютно иллюзорно, так как она вытягивает губы и целует то место у его плеча, где только что покоилась ее голова.
— Ты прав, дорогой, как всегда.
— Не надо так говорить. Лишь иногда.
— Дело в том, что я чувствую, как ты становишься все лучше и лучше, гораздо лучше меня — в умении быть невозможным.
— Чепуха.
— Нет, правда. У меня нет этой твоей интуитивной способности портить настроение. Не так-то просто этому научиться, если провела всю жизнь, пытаясь делать обратное.
— Но у тебя сегодня все просто чудесно получалось. Ты говорила такое, чего я, кажется, никогда не мог бы простить.
Она снова целует его в плечо и вздыхает:
— Я очень старалась.
— И преуспела.
Она прижимается еще теснее.
— Во всяком случае, это доказывает, как я была права, явившись к тебе с самого начала.
— Очень великодушно с твоей стороны, дорогая.
Она некоторое время молчит.
— Правда, я так никогда по-настоящему и не объясняла тебе почему.
— Ну как же, разумеется, объясняла. Раз двадцать, в периоды отдыха. Говорила, как тебе нравится моя чувствительность в отношении женщин, как ты обнаружила, что у меня проблемы с литературным творчеством… и всякое такое. — Она молча целует его плечо. Он смотрит в потолок. — Что, ты хочешь сказать — была какая-то другая…
— Да нет, ничего, милый.
— Ну скажи же.
— Только не обижайся. — Она гладит ладошкой его грудь. — Знаешь, оттого, что я теперь чувствую, как мы близки… Мне не хочется, чтобы у меня были от тебя хоть какие-то тайны.
— Давай выкладывай.
Она снова прижимается тесней.
— Понимаешь, я не думаю, что ты мог хоть когда-нибудь представить себе, как привлекательны твои проблемы с литтворчеством были… и есть… для женщины вроде меня. — Ее пальчики гладят его правый сосок. — Я никогда тебе этого не говорила, Майлз, но я ощутила это во время самой первой встречи с тобой. Разумеется, ты и понятия не имел, что это я, я пряталась за той, которую ты тогда пытался вообразить. Но, мой дорогой, я все время внимательно за тобой наблюдала.
— И что же?
— И я подумала, слава богам, вот наконец-то нашелся мальчик, которому никогда не удастся ничего сделать, пытайся он хоть тыщу лет. Да к тому же он и сам наполовину уже понимает это. И весь период твоего созревания, все то время, что расшибал себе лоб о стену, выдавливая эти свои… мой дорогой, как это трудно… я же знаю, у тебя были самые добрые намерения и ты очень старался, а я и правда пыталась помочь, но давай все же взглянем правде в глаза, это были отчаянные и безнадежные, совершенно бесплодные попытки дать мой точный портрет… все это поистине ужасное для меня время я не теряла веры в тебя. Потому что знала: в один прекрасный день наступит озарение и ты осознаешь, что твои попытки столь же бессмысленны, как попытки человека с одной ногой стать олимпийским атлетом. И тогда наконец-то произойдет то самое, великолепное и тайное, что только может произойти между нами. — Она на миг замолкает, потом издает негромкий смешок. — Ты был такой забавный в образе старшей сестры. Каждый раз она у тебя получается все лучше и лучше. Я чуть не рассмеялась вслух. — Он не произносит ни слова. — Майлз, ты понимаешь, что я хочу сказать?
— Да. Прекрасно понимаю.
Что-то в его голосе заставляет ее приподняться на локте и взволнованно вглядеться в его лицо. Она поднимает руку и гладит его щеку.
— Мой дорогой, влюбленные должны быть откровенны друг с другом.
— Я знаю.
— Ты же только что был вполне откровенен со мной о сестре Кори. Я просто стараюсь отплатить тебе тем же.
— Понимаю.
Она треплет его по щеке.
— И ты всегда обладал поразительной неспособностью выразить себя. Это так привлекательно — много интереснее, чем обладать умением пользоваться словами. Мне кажется, ты себя ужасно недооцениваешь. Людей, знающих, что они хотят сказать, и умеющих сказать это, десяток на пенни. Неспособность подобрать ключ к тому и другому — поистине бесценный дар. Ты почти уникум, единственный в своем роде. — Она внимательно его разглядывает, в глазах — нежное сочувствие. — Вот почему, если реально смотреть на вещи, я явилась, чтобы стать для тебя реальной, дорогой мой. Вот почему я чувствую себя с тобой в полной безопасности. Ведь я знаю, что, даже если когда-нибудь ты случайно — упаси тебя Боже… впрочем, я знаю, что ты таким шансом в жизни не воспользуешься, — надуешь меня, попытаешься описать все это, у тебя все равно ничего не получится, пытайся ты хоть миллион лет. Между прочим, я когда-то рассматривала кандидатуры других писателей, но ни один не дал мне ощутить столь же неколебимое чувство безопасности, какое даешь ты. — Она наблюдает за ним молча минуту-две, затем склоняется над ним, глаза ее до краев полны искренней заботы, губы застыли у самого его рта. — Майлз, ты же знаешь, раз ты такой, ты можешь иметь меня всегда, когда пожелаешь. — Она целует его в губы. — И как пожелаешь. А если бы все было иначе и ты мог бы записать все это, я никак не могла бы быть с тобой. Мне пришлось бы вернуться и снова превратиться в тень на лестничных клетках твоего мозга, в занудный старый призрак бога из машины, а я даже и подумать не могу о том, чтобы быть для тебя лишь мыслью. — Она снова его целует, но на этот раз губы ее едва касаются его губ. — А вот это у тебя получается гораздо, гораздо лучше, должна я сказать.