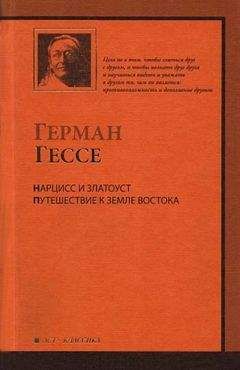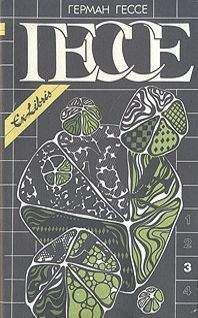Удивленно и негодующе Никлаус посмотрел на него, глаза его снова стали серьезными.
— Мы еще поговорим об этом. Для тебя работа только начинается, сейчас и впрямь не время думать об уходе. Но на сегодня ты свободен, а обедать приходи ко мне.
К обеду Златоуст явился причесанный и умытый, облаченный в воскресное платье. На этот раз он знал, как много значило и какой редкой милостью было приглашение к столу мастера. Когда он поднимался по лестнице, ведущей в уставленную скульптурами прихожую, сердце его отнюдь не было переполнено благоговением и робкой радостью, как в тот раз, когда он с бьющимся сердцем входил в эти прекрасные покои.
Лизбет тоже принарядилась и надела на шею ожерелье с драгоценными камнями, а за столом, кроме карпа и вина, его ожидал еще один сюрприз: мастер подарил ему кожаный кошелек, в котором лежали две золотые монеты — плата за только что законченную скульптуру.
На сей раз он не молчал во время беседы отца и дочери. Они обращались к нему, чокались с ним. Златоуст воспользовался моментом, чтобы как следует разглядеть красивую девушку с благородным и несколько высокомерным лицом, и глаза его не могли утаить, что она ему нравится. Она была с ним учтива, но его разочаровало, что она не краснела и не становилась приветливее. Он снова страстно желал заставить это неподвижное лицо заговорить, вынудить его раскрыть свою тайну.
Он поблагодарил за обед, некоторое время разглядывал скульптуры в прихожей, а потом в нерешительности до вечера бесцельно и праздно слонялся по городу. Вопреки ожиданию, мастер отнесся к нему с большим почтением. Почему же это не радовало его? Почему в оказанной ему чести было столь мало торжества?
Следуя внезапному побуждению, он нанял лошадь и поехал верхом в монастырь, где ему довелось впервые увидеть творение мастера и услышать его имя. Это было всего несколько лет назад и в то же время немыслимо давно. Он зашел в монастырскую церковь, чтобы полюбоваться скульптурой Божьей Матери, и это творение снова восхитило и покорило его; оно было прекраснее его Иоанна, в нем была такая же проникновенность и тайна, но оно превосходило его мастерством исполнения, свободным, невесомым парением. Теперь он обратил внимание на детали, которые замечает только художник, на легкие, нежные извивы одеяния, на смелость линий длинных кистей руки пальцев, на тонкое использование случайных узоров в структуре дерева; все эти красоты ничего не значили в сравнении с целым, с простотой и проникновенностью образа, но они были налицо и радовали глаз, даже очень одаренному человеку они были под силу только в том случае, если он в совершенстве владел своим ремеслом. Чтобы сделать такое, надо было не только вынашивать в душе образы, надо было иметь поразительно наметанный глаз и столь же умелые руки. Быть может, стоило все-таки посвятить свою жизнь служению искусству, поступившись свободой, поступившись глубокими переживаниями для того лишь, чтобы создать когда-нибудь подобную красоту, не только прочувствованную, увиденную и любовно воспринятую душой, но и возможную только благодаря доведенному до совершенства мастерству? Вот вопрос, который очень занимал его.
Златоуст возвратился в город поздно ночью на усталом коне. Один трактир был еще открыт, там он поел хлеба и выпил вина, затем поднялся в свою каморку на Рыбном рынке, терзаясь сомнениями, полный вопросов и неуверенности в себе.
На другой день Златоуст так и не решился пойти в мастерскую. Как уже не раз бывало в такие безрадостные дни, он бродил по городу. Он разглядывал женщин и служанок, идущих на рынок, особо задержался у источника на Рыбном рынке, наблюдая, как торговцы рыбой и их дюжие жены выставляют и нахваливают свой товар, как они вытаскивают из бочек и предлагают прохладных, отливающих серебром рыб, как рыбы с мучительно разинутыми ртами и застывшими в испуге золотистыми глазами покорно встречали смерть или же яростно и отчаянно боролись с ней. Как уже не раз случалось, он почувствовал сострадание к этим животным и тоскливое недовольство людьми; почему они были столь равнодушны и жестоки, столь невообразимо тупы и глупы, почему все они ничего не замечали, ни рыбаки, ни их жены, ни торгующиеся покупатели, почему они не видели этих ртов, этих до смерти испуганных глаз и яростно бившихся хвостов, этой ужасной и бесполезной отчаянной борьбы, этого невыносимого превращения таинственных, удивительно красивых созданий, того, как по их мертвеющей чешуе пробегает последняя легкая дрожь и как они потом лежат, растянувшись, мертвые — жалкие куски мяса к столу самодовольных обжор? Ничего они не видели, эти люди, ничего не знали и не замечали, ничто их не волновало! Подыхало ли на их глазах прелестное существо или же мастер до ужаса зримо выражал в лице святого все надежды, все благородство, все мучения и весь темный, гнетущий страх человеческой жизни, — им было все равно, они ничего не видели, ничто их не трогало! Все они были веселы или заняты, у них были важные дела, они торопились, кричали, смеялись и подзуживали друг друга, шумели, шутили, жалобно скулили из-за двух пфеннигов, и всем было хорошо, все были в полном порядке, все были как нельзя более довольны собой и миром. Это были свиньи, да где там, много хуже и беспутнее свиней! Правда, он и сам довольно часто бывал заодно с ними, веселился и чувствовал себя среди них своим, приударял за девушками, смеясь и не испытывая ужаса ел с тарелки жареную рыбу. Но каждый раз, часто совершенно неожиданно и как по волшебству, его оставляли радость и покой, каждый раз с него спадало это жирное, тучное наваждение, это самодовольство, самомнение и ленивый душевный покой, и его влекло к одиночеству и размышлениям, к странствиям, к созерцанию страданий, смерти, ненужности всей этой суеты, к погружению в бездну. Иногда из этого безнадежного созерцания нелепости и ужасов бытия в нем вдруг расцветала радость, возникала страстная влюбленность, желание спеть красивую песню или порисовать; случалось ему обретать детское согласие с миром и тогда, когда он вдыхал аромат цветка или играл с котенком. Оно и теперь вернется к нему, завтра или послезавтра, и мир опять станет добрым и чудесным. Пока не придет иное чувство — печаль, задумчивость, безнадежная, гнетущая любовь к умирающим рыбам, увядающим цветам, ужас перед тупым, животным прозябанием людей, которые смотрят, но не видят. В такое время он всегда вспоминал с мучительным любопытством и глубокой подавленностью странствующего школяра Виктора, которого он тогда пырнул ножом между ребер и которого оставил лежать, залитого кровью, на еловых ветках, и он спрашивал себя, что стало с этим Виктором, сожрали ли его звери целиком или же что-то от него сохранилось. Надо думать, остались кости да пара горстей волос. А кости — во что они превратились? Сколько пройдет лет или десятилетий, пока они потеряют свою форму и превратятся в прах?
Вот и сегодня, сочувственно глядя на рыб и с отвращением на торгующихся людей, полный мрачного уныния и горькой вражды к миру и к самому себе, он не мог не вспомнить о Викторе. Может, его обнаружили и предали земле? И если это случилось, то вся ли его плоть уже сошла с костей, все ли сгнило, все ли сожрали черви? Остались ли еще волосы на его черепе и брови над глазницами? А от жизни Виктора, полной приключений, всяческих историй и фантастической игры его удивительных шуток и забавных рассказов — что осталось от нее? Осталось ли хоть что-нибудь, кроме разрозненных воспоминаний, которые сохранил о нем его убийца, от этой человеческой жизни — надо признать, не совсем ординарной? Живет ли еще Виктор в мечтах женщин, которых он когда-то любил? Ах, видимо, все прошло и улетучилось. И так бывает со всеми и со всем, все быстро расцветает, быстро увядает, а потом покрывается снегом. Какие только надежды не расцвели в нем, когда несколько лет тому назад пришел он в этот город, полный надежды творить, полный глубокого и робкого почитания мастера Никлауса! Что осталось от всего этого? Ничего, ничуть не больше, чем от долговязой разбойной фигуры бедного Виктора. Скажи ему тогда кто-нибудь, что придет день и Никлаус сочтет его за ровню себе и потребует для него от цеха свидетельства о получении звания мастера, он бы посчитал, что держит в руках все счастье мира. А теперь это всего лишь увядший цветок, нечто пустое и безрадостное.
Когда Златоуст думал об этом, ему вдруг предстало видение. Длилось оно всего один миг, сверкнуло и погасло: он увидел лицо Праматери, склонившееся над бездной бытия; отрешенно улыбаясь, взирало оно на прекрасную и чудовищную жизнь, на новорожденных, на умирающих, на цветы, оно улыбалось шелестящей осенней листве, улыбалось искусству, улыбалось тлену.
Она, Праматерь, ко всему относилась одинаково, надо всем сияла, подобно луне, ее зловещая улыбка, впавший в унылую задумчивость Златоуст был ей так же мил, как и карп, умирающий на мощеной площади рынка, а гордая холодная девица Лизбет так же по душе, как рассеянные по лесу кости того самого Виктора, который когда-то очень хотел украсть его дукат.