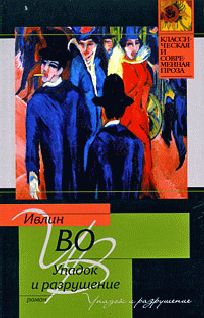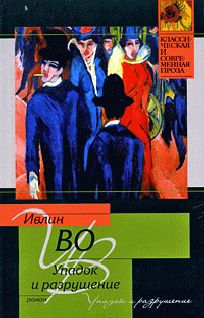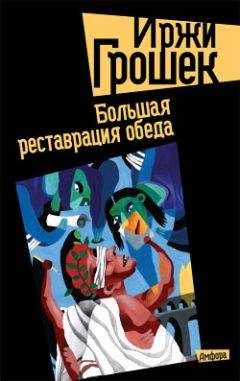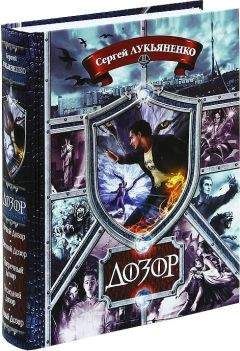— Ну и дела! — сказал он. — Вроде как духами запахло.
И тут все они заговорили о бабах.
В Эгдоне Поль повстречал еще одного старого знакомого: когда он направлялся в часовню, перед ним появился бодрый, плотный коротыш на скрипучей деревянной ноге.
— Вот и свиделись, старина! — сказал он, когда вся часовня хором отвечала священнику. — Я, по обыкновению, сел в лужу.
— Не повезло с работой? — спросил Поль.
— Работа была первый сорт, — ответил Граймс. — Но заварилась каша. Потом расскажу.
В то утро, вооружившись кайлом, Поль в числе других арестантов, под надзором конных охранников с полевым телефоном, отправился в каменоломни. Граймс был в той же команде.
— Я здесь третью неделю, — сообщил Граймс, как только возникла возможность поговорить. — А уже все обрыдло. Я человек общительный. Мне здесь не нравится. Три года — это уж чересчур! Но ничего. Выйдем, устроим пир горой. День и ночь только о том и мечтаю.
— За что тебя посадили, за двоеженство?
— Ага. Зря я приехал из-за границы. Не успел я появиться в Англии, как меня сцапали. Зашла миссис Граймс в магазин, увидела меня — и привет, пишите письма. В аду, говорит, черти по-разному людей мучают, но моя супруга заменит целое пекло.
Неподалеку замаячил надзиратель. Поль и Граймс разошлись и начали усердно долбить песчаник
— Впрочем, — хмыкнул Граймс, — хотел бы я полюбоваться на старушку Флосси и моего бывшего тестя в их теперешнем положении. Школа-то, говорят, закрывается! Граймс опорочил это заведение… Кстати, как дела у Пренди?
— Убит три дня назад.
— Ах, старина Пренди! Он не был создан для счастья, верно? Вот выйду отсюда, пожалуй, брошу учительствовать. Это дело меня до добра не доведет.
— Нас с тобой оно привело в одно и то же место.
— Да, ничего себе совпадение! Черт, опять легавый идет…
Они вернулись в тюрьму. Если не считать каменоломни, Эгдон мало чем отличался от Блекстона.
«Парашу за дверь», часовня, одиночество…
Впрочем, не прошло и недели, как Поль почувствовал, что о нем не забыли. Первой ласточкой был разговор со священником.
— Вот, принес вам книги, — сообщил он как-то раз, впорхнув в камеру к Полю и протягивая ему два новеньких томика в суперобложках и с ценниками книжного магазина на Пикадилли. — Если эти не годятся, у меня с собой еще несколько на выбор, — он показал на пачку книг в ярких переплетах, которую неловко придерживал под мышкой. — Может, хотите новый роман Вирджинии Вулф? Позавчера вышел.
Благодарю вас, сэр, — ответил Поль.
Судя по всему, в Эгдоне библиотека отличалась куда большим разнообразием и богатством, чем в Блекстоне.
— Могу еще предложить монографию по истории театра, — добавил священник и подал Полю толстый иллюстрированный том, на вид стоивший не меньше трех гиней. — Запишем, так уж и быть, как «пособие по самообразованию».
Благодарю вас, сэр, — повторил Поль.
— Когда захотите обменять книги, скажете, — продолжал священник. — Кстати, вам разрешено написать письмо. И между прочим, будете писать миссис Бест-Четвинд, не забудьте упомянуть, что остались довольны библиотекой… Миссис Бест-Четвинд преподнесла в дар нашей тюремной часовне новую кафедру с гипсовыми барельефами, — добавил он вне всякой связи с предыдущим и, выпорхнув из камеры, направился к Граймсу, которому и всучил том «Самовоспитания» Смайлса, том, из коего в отдаленном прошлом неизвестный, но бесчувственный читатель выдрал сто восемнадцать страниц.
«Еще неизвестно, — подумал Поль, — как следует относиться к потрепанным бестселлерам, но вот когда открываешь еще никем не читанную книжку, возникает удивительное ощущение… Зачем это священнику понадобилось, чтобы я написал Марго о библиотеке?» — недоумевал он.
В тот вечер за ужином Поль ничуть не удивился, когда увидел, что в подгоревшей подливке плавают угольки — такое случалось время от времени. Однако на ощупь угольки оказались мягкими, и это привело его в замешательство. Тюремная кухня часто преподносила сюрпризы, тут жаловаться не приходилось, но все же… Поль присмотрелся к подливке. Удивительное дело — она была чуть розоватая и невероятно густая. Поль осторожно ее попробовал. Это был паштет из гусиной печенки.
С тех пор не проходило и дня, чтобы какой-нибудь таинственный метеорит в этом роде не залетел с воли в его камеру. Однажды, вернувшись в полутемную камеру с пустоши (свет гасили сразу после захода солнца, а окошко было совсем узкое), он почувствовал, что все пространство камеры залито ароматом цветов. На столе лежал букет роз, тех роз, которые по зимнему времени идут на Бонд-стрит по три шиллинга за штуку. (Вообще-то, в Эгдоне разрешалось держать цветы в камере, и арестанты отделывались всего лишь строгим выговором, если по дороге с каменоломни срывали лютик или барвинок.)
В другой раз тюремный врач во время ежедневного обхода задержался в камере Поля, проверил его фамилию по карточке, висевшей на двери, внимательно посмотрел на него и сказал:
— Будете принимать укрепительное.
Не сказав более ни слова, он удалился, а на следующий день в камере появилась большая аптекарская бутыль.
— По два стакана после еды, — изрек надзиратель. — Пей на здоровье.
Поль так и не понял, как на этот раз отнесся к нему надзиратель, но пил он, действительно, «на здоровье» — в бутыли был херес.
В другой раз в соседней камере разразился грандиозный скандал: ее обитателю, взломщику-рецидивисту, по оплошности выдали порцию черной икры, предназначенную для Поля. Арестанта утихомирили, сунув ему порядочный кусок сала, но дежурный надзиратель все беспокоился, как бы обиженный взломщик не нажаловался начальнику тюрьмы.
— Я не скандалист какой, — рассуждал взломщик, когда он как-то раз остался с Полем с глазу на глаз в каменоломне. — Но обращение ты мне подавай уважительное. Посмотрел бы ты на ту черную кашу, что они мне подсунули! Глядеть — и то тошно. И это в день, когда положено сало! Разуй, парень, глаза, я тебе дело говорю. Ты ведь у нас новичок. А то они и тебе всучат эту пакость. Не ешь, погоди. Придержи ее до прихода начальства. Нет у них такого права — нас черной кашей кормить. Это и дураку ясно.
Затем пришло письмо от Марго, не сказать чтобы очень длинное.
«Дорогой Поль! — говорилось в нем. — Мне очень трудно тебе писать, потому что я вообще не знаю, как писать письма, а тут еще эти ужасные полицейские будут его читать и вычеркнут все, что им не понравится, а я понятия не имею, что им нравится. Мы с Питером вернулись в Королевский Четверг. На Корфу было чудесно, но нам не давал покоя тамошний доктор — англичанин и страшный зануда. Дом мне разонравился. Буду его перестраивать. Что ты на это скажешь? Питер теперь граф — ты слышал? — и довольно мил, хотя завоображал; вот уж чего не ждала от Питера! Я, если можно, как-нибудь в свободное время заеду с тобой повидаться: после смерти Бобби П. у меня дел невпроворот. Надеюсь, книжек, еды и всего прочего у тебя достаточно. Интересно, вычеркнут они эту фразу или нет? Целую, Марго. Дорогой! В Нью-Маркете я встретила леди Периметр, и она со мной не поздоровалась. Представляешь? Бедняга Контроверс сказал, что, если я не буду себя вести как подобает, общество подвергнет меня остракизму. Правда очаровательно? Я, может быть, ошибаюсь, но, по-моему, молодой Трампингтон в меня влюбился. Как быть?»
И вот Марго явилась собственной персоной.
Они увиделись впервые с того июньского утра, когда она отправила Поля в Марсель на помощь перетрусившим девицам… Свидание происходило в особой комнате для посетителей. За столом друг против друга сидели Марго и Поль, между ними — надзиратель.
— Руки на стол, — сказал надзиратель.
— В «гоп-доп» сыграем? — вяло пошутила Марго, и ее безукоризненно наманикюренные ручки появились на столе, рядом с перчатками и сумочкой.
Только тут Поль заметил, как загрубели его неуклюжие ладони. Минуту оба молчали.
— Я, наверно, ужасно выгляжу? — спросил наконец Поль. — Я ведь давно не гляделся в зеркало.
— Ну, может, самую малость mal soign [35], дорогой. Тебе, наверно, не разрешают бриться?
— Обсуждать тюремный режим запрещается. Заключенным разрешается сообщать посетителям о состоянии своего здоровья, но жалобы и замечания касательно распорядка не допускаются ни под каким видом.
— Боже мой! — ахнула Марго. — Как же нам быть? О чем же разговаривать? Я, наверно, зря приехала. Ты не рад, милый?
— Коли хотите говорить на личные темы, не обращайте на меня внимания, леди, — добродушно молвил надзиратель. — Я здесь для того, чтобы заговоров не допускать. Если что и услышу, дальше меня не пойдет, а слышу я столько, что дай бог всякому. С женщинами вообще морока: то ревут, то в обмороки падают, то в истерику пускаются. С одной, — со смаком прибавил он, — падучая приключилась.