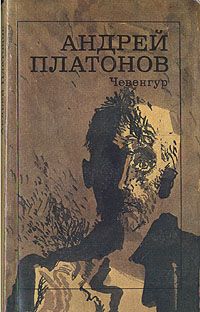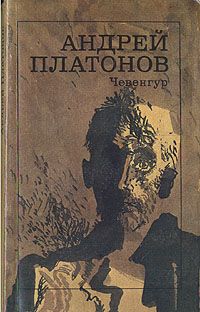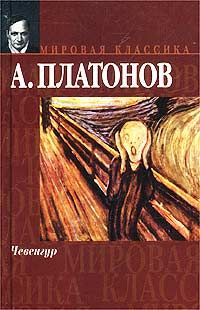– Давайте выпьем по стаканчику, – сказал Пашинцев.
Но Копенкина и в старое время не брала водка; он ее не пил сознательно, как бесцельный для чувства напиток.
Дванов тоже не понимал вина, и Пашинцев выпил в одиночестве. Он взял бутылку – с надписью «Смерть буржуям!» – и перелил ее непосредственно в горло.
– Язва! – сказал он, опорожнив посуду, и сел с подобревшим лицом.
– Чтό, приятно? – спросил Копенкин.
– Свекольная настойка, – объяснил Пашинцев. – Одна незамужняя девка чистоплотными руками варит – беспорочный напиток – очень духовит, батюшка...
– Да кто ж ты такой? – с досадой интересовался Копенкин.
– Я – личный человек, – осведомлял Пашинцев Копенкина. – Я вынес себе резолюцию, что в девятнадцатом году у нас все кончилось – пошли армия, власти и порядки, а народу – опять становись в строй, начинай с понедельника... Да будь ты...
Пашинцев кратко сформулировал рукой весь текущий момент. Дванов перестал думать и медленно слушал рассуждающего.
– Ты помнишь восемнадцатый и девятнадцатый год? – со слезами радости говорил Пашинцев. Навсегда потерянное время вызывало в нем яростные воспоминания: среди рассказа он молотил по столу кулаком и угрожал всему окружению своего подвала. – Теперь уж ничего не будет, – с ненавистью убеждал Пашинцев моргавшего Копенкина. – Всему конец: закон пошел, разница между людьми явилась – как будто какой чорт на весах вешал человека... Возьми меня – разве ты сроду узнаешь, что тут дышит? – Пашинцев ударил себя по низкому черепу, где мозг должен быть сжатым, чтобы поместиться уму. – Да тут, брат, всем пространствам место найдется. Так же и у каждого. А надо мной властвовать хотят! Как ты все это в целости поймешь? Говори – обман или нет?
– Обман, – с простой душою согласился Копенкин.
– Вот! – удовлетворенно закончил Пашинцев. – И я теперь горю отдельно от всего костра!
Пашинцев почуял в Копенкине такого же сироту земного шара, каков он сам, и задушевными словами просил его остаться с ним навсегда.
– Чего тебе надо? – говорил Пашинцев, доходя до самозабвения от радости чувствовать дружелюбного человека. – Живи тут. Ешь, пей, я яблок пять кадушек намочил, два мешка махорки насушил. Будем меж деревами друзьями жить, на траве песни петь.
Так брось пахать и сеять, жать,
Пускай вся почва родит самосевом.
А ты ж живи и веселись —
Не дважды кряду происходит жизнь,
Со всей коммуною святой
За руки честные возьмись
И громко грянь на ухи всем:
Довольно грустно бедовать,
Пора нам всем великолепно жировать.
Долой земные бедные труды,
Земля задаром даст нам пропитанье.
В дверь постучал кто-то ровным хозяйским стуком.
– Э! – отозвался Пашинцев, уже испаривший из себя самогон и поэтому замолкший.
– Максим Степаныч, – раздалось снаружи, – дозволь на оглоблю жердину в опушке сыскать: хряпнула на полпути, хоть зимуй у тебя.
– Нельзя, – отказал Пашинцев. – До каких пор я буду приучать вас? Я же вывесил приказ на амбаре: земля – самодельная и, стало быть, ничья. Если б ты без спросу брал, тогда б я тебе позволил...
Человек снаружи похрипел от радости.
– Ну, тогда спасибо. Жердь я не трону – раз она прошеная, я что-нибудь иное себе подарю.
Пашинцев свободно сказал:
– Никогда не спрашивай, рабская психология, а дари себе все сам. Родился-то ты не от своей силы, а даром – и живи без счета.
– Это – точно, Максим Степаныч, – совершенно серьезно подтвердил проситель за дверью. – Что самовольно схватишь, тем и жив. Если б не именье – полсела бы у нас померло. Пятый год добро отсюда возим: большевики люди справедливые! Спасибо тебе, Максим Степанович.
Пашинцев сразу рассердился:
– Опять ты – спасибо! Ничего не бери, серый чорт!
– Эт к чему же, Максим Степаныч? За что ж я тогда три года на позиции кровь проливал? Мы с кумом на паре за чугунным чаном приехали, а ты говоришь – не смей...
– Вот отечество! – сказал Пашинцев себе и Копенкину, а потом обратился к двери: – Так ведь ты за оглоблей приехал? Теперь говоришь – чан!
Проситель не удивился.
– Да хуть что-нибудь... Иной раз курицу одну везешь, а глядь – на дороге вал железный лежит, а один не осилишь, так он по-хамски и валяется. Оттого и в хозяйстве у нас везде разруха...
– Раз ты на паре, – кончил разговор Пашинцев, – то увези бабью ногу из белых столбов... В хозяйстве ей место найдется.
– Можно, – удовлетворился проситель. – Мы ее буксиром спрохвала потащим – кафель из нее колоть будем.
Проситель ушел предварительно осматривать колонну – для более сподручного похищения ее.
В начале ночи Дванов предложил Пашинцеву устроить лучше – не имение перетаскивать в деревню, а деревню переселить в имение.
– Труда меньше, – говорил Дванов. – К тому же имение на высоком месте стоит – здесь земля урожайней.
Пашинцев на это никак не согласился.
– Сюда с весны вся губернская босота сходится – самый чистый пролетариат. Куда ж им тогда деваться? Нет, я здесь кулацкого засилья не допущу! Народу ко мне ходит тысячи – вся нищета в моей коммуне радуется: народу же кроме – нет легкого пристанища. В деревне – за ним Советы наблюдают, комиссары-стражники людей сторожат, упродком хлеб в животе ищет, а ко мне никто из казенных не покажется...
– Боятся тебя, – заключил Копенкин, – ты же весь в железе ходишь, спишь на бомбе...
– Определенно боятся, – согласился Пашинцев. – Ко мне было хотели присоседиться и имение на учет взять, а я вышел к комиссару во всей сбруе, взметнул бомбу: даешь коммуну! А в другой раз приехали разверстку брать. Я комиссару и говорю: пей, ешь, сукин сын, но если что лишнее возьмешь – вонь от тебя останется. Выпил комиссар чашку самогону и уехал: спасибо, говорит, товарищ Пашинцев. Дал я ему горсть подсолнухов, ткнул вон той чугунной головешкой в спину и отправил в казенные районы...
– А теперь как же? – спросил Копенкин.
– Да никак: живу безо всякого руководства, отлично выходит. Объявил тут ревзаповедник, чтоб власть не косилась, и храню революцию в нетронутой геройской категории...
Дванов разобрал на стене надписи углем, выведенные дрожащей, не писчей рукой. Дванов взял коптильник в руку и прочел стенные скрижали ревзаповедника.
– Почитай, почитай, – охотно советовал ему Пашинцев. – Другой раз молчишь, молчишь – намолчишься и начнешь на стене разговаривать: если долго без людей, мне мутно бывает...
Дванов читал стихи на стене:
Буржуя нету, так будет труд —
Опять у мужика гужа на шее.
Поверь, крестьянин трудовой,
Цветочкам полевым сдобней живется!
Дванов подумал, что, действительно, мужики с босяками не сживутся. С другой стороны, жирная земля пропадает зря – население ревзаповедника ничего не сеет, а живет за счет остатков фруктового сада и природного самосева: вероятно, из лебеды и крапивы щи варит.
– Вот что, – неожиданно для себя догадался Дванов. – Ты обменяй деревню на имение: имение мужикам отдай, а в деревне ревзаповедник сделай. Тебе же все равно – важны люди, а не место. Народ в овраге томится, а ты один на бугре!..
Пашинцев со счастливым удивлением посмотрел на Дванова.
– Вот это отлично! Так и сделаю. Завтра же еду на деревню мужиков поднимать.
– Поедут? – спросил Копенкин.
– В одни сутки все тут будут! – с яростным убеждением воскликнул Пашинцев и даже двинулся телом от нетерпения. – Да я прямо сейчас поеду! – передумал Пашинцев. Он теперь и Дванова полюбил. Сначала Дванов ему не вполне понравился: сидит и молчит, наверное, все программы, уставы и тезисы наизусть знает – таких умных Пашинцев не любил. Он видел в жизни, что глупые и несчастные добрее умных и более способны изменить свою жизнь к свободе и счастью. Втайне ото всех Пашинцев верил, что рабочие и крестьяне, конечно, глупее ученых буржуев, но зато они душевнее, и отсюда их отличная судьба.
Пашинцева успокоил Копенкин, сказав, что нечего спешить – победа за нами, все едино, обеспечена.
Пашинцев согласился и рассказал про сорную траву. В свое детское погубленное время он любил глядеть, как жалкая и обреченная трава разрастается по просу. Он знал, что выйдет погожий день и бабы безжалостно выберут по ветелке дикую неуместную траву – васильки, донник и ветрянку. Эта трава была красивей невзрачных хлебов – ее цветы походили на печальные предсмертные глаза детей, они знали, что их порвут потные бабы. Но такая трава живей и терпеливей квелых хлебов – после баб она снова рожалась в неисчислимом и бессмертном количестве.
– Вот так же и беднота! – сравнивал Пашинцев, сожалея, что выпил всю «Смерть буржуям!». – В нас мόчи больше, и мы сердечней прочих элементов...