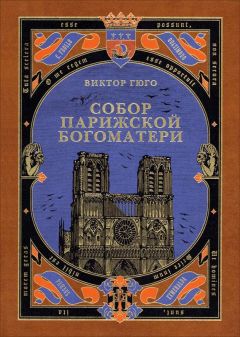Отец Публдом стал объяснять значение этих слов звучным, уверенным голосом. Это одно из самых трудных мест во всем Писании, сказал он, потому что очень трудно истолковать его правильно и понятно. На первый взгляд даже может показаться, что он не согласуется с возвышенной моралью, проповедуемой Иисусом Христом. Но, сказал он своим слушателям, эти слова несомненно обращены как бы специально к тем, кому суждено жить в миру и кто тем не менее желает жить не так, как сыны мира сего. Эти слова как раз для деловых людей. Иисус Христос, в совершенстве постигший все слабости человеческой природы, понимал, что не все люди призваны жить в боге, что, напротив, большинство их вынуждено жить в миру и в некоторой степени даже для мира; и этими словами он хотел дать им совет, рассказав для пользы их духовной жизни о тех корыстолюбцах, которые наименее всего пекутся о делах божьих.
Он сказал своим слушателям, что сегодня он пришел сюда не затем, чтобы устрашать их или предъявлять к ним невыполнимые требования: он пришел как сын мира сего, чтобы поговорить с братьями своими. Он пришел говорить с деловыми людьми, и он будет говорить с ними по-деловому. Если ему позволено будет выразиться образно, он сейчас – их духовный бухгалтер; и он хочет, чтобы каждый из его слушателей раскрыл перед ним свои книги, книги своей духовной жизни, и посмотрел, точно ли сходятся в них счета совести.
Иисус Христос – милостивый хозяин. Он знает наши грехи, знает слабости нашей грешной природы, знает соблазны мирской жизни. У всех нас бывали искушения, и все мы им поддавались; у всех нас бывали греховные соблазны, и все мы грешили. Но только об одном, сказал он, просит он своих слушателей. Да будут они честны и мужественны перед богом. Если их счета сходятся по всем графам, пусть они скажут:
«Вот, я проверил мои счета. В них все правильно».
Но если случится так, что в их счетах будет много ошибок, пусть они чистосердечно признаются в этом и скажут, как подобает мужчинам:
«Вот, я просмотрел мои счета. Я нашел, что в них много ошибок. Но милость божия неизреченна, и я исправлюсь. Я приведу в порядок мои счета».
Мертвые
Перевод О. П. Холмской
Лили, дочь сторожа, совсем сбилась с ног. Не успевала она проводить одного гостя в маленький чулан позади конторы в нижнем этаже и помочь ему раздеться, как опять начинал звонить сиплый колокольчик у входной двери, и опять надо было бежать бегом по пустому коридору открывать дверь новому гостю. Хорошо еще, что о дамах ей не приходилось заботиться. Мисс Кэт и мисс Джулия подумали об этом и устроили дамскую раздевальню в ванной комнате, наверху. Мисс Кэт и мисс Джулия обе были там, болтали, смеялись, и суетились, и то и дело выходили на лестницу, и, перегнувшись через перила, подзывали Лили и спрашивали, кто пришел. Это всегда было целое событие – ежегодный бал у трех мисс Моркан. Собирались все их знакомые – родственники, старые друзья семьи, участники хора, в котором пела мисс Джулия, те из учениц Кэт, которые к этому времени достаточно подросли, и даже кое-кто из учениц Мэри Джейн. Ни разу не было, чтоб бал не удался. Сколько лет подряд он всегда проходил блестяще; с тех самых пор, как Кэт и Джулия после смерти брата Пэта взяли к себе Мэри Джейн, свою единственную племянницу, и из Стоуни Баттер переехали в темный мрачный дом на Ашер-Айленд, верхний этаж которого они снимали у мистера Фулгема, хлебного маклера, занимавшего нижний этаж. Это было добрых тридцать лет тому назад. Мэри Джейн из девочки в коротком платьице успела за это время стать главной опорой семьи: она была органисткой в церкви на Хэддингтон-Роуд. Она окончила Академию и каждый год устраивала концерты своих учениц в концертном зале Энтьент. Многие из ее учениц принадлежали к самым лучшим семьям в аристократических кварталах Дублина. Обе тетки тоже еще работали, несмотря на свой преклонный возраст. Джулия, теперь уже совсем седая, все еще была первым сопрано в церкви Адама и Евы, а Кэт, которая по слабости здоровья не могла много ходить, давала уроки начинающим на старом квадратном фортепиано в столовой. Лили, дочь сторожа, была у них за прислугу. Хотя они жили очень скромно, в еде они себе не отказывали; все только самое лучшее: первосортный филей, чай за три шиллинга, портер высшего качества. Лили редко путала приказания и поэтому неплохо уживалась со своими тремя хозяйками. Они, правда, склонны были волноваться из-за пустяков, но это еще не большая беда. Единственное, чего они не выносили, это возражений.
А в такой вечер, как этот, немудрено было и поволноваться. Во-первых, было уже больше десяти, а ни Габриел, ни его жена еще не приехали. Во-вторых, они страшно боялись, как бы Фредди Мэлинз не пришел под хмельком. Ни за что на свете они бы не хотели, чтоб кто-нибудь из учениц Мэри Джейн увидел его в таком состоянии; а когда он бывал навеселе, с ним нелегко было сладить. Фредди Мэлинз всегда запаздывал, а вот что задержало Габриела, они не могли понять; поэтому-то они и выбегали поминутно на лестницу и спрашивали Лили, не пришел ли Габриел или Фредди.
– Ах, мистер Конрой, – сказала Лили, открывая дверь Габриелу. – Мисс Кэт и мисс Джулия уж думали, что вы совсем не придете. Здравствуйте, миссис Конрой.
– Неудивительно, – сказал Габриел, – что они так думали. Но они забывают, что моей жене нужно не меньше трех часов, чтоб одеться.
Пока он стоял на половичке, счищая снег с галош, Лили проводила его жену до лестницы и громко позвала:
– Мисс Кэт! Миссис Конрой пришла.
Кэт и Джулия засеменили вниз по темной лестнице. Обе поцеловали жену Габриела, сказали, что бедняжка Грета, наверно, совсем закоченела, и спросили: а где же Габриел?
– Я тут, тетя Кэт, тут, будьте покойны. Идите наверх. Я сейчас приду, – отозвался Габриел из темноты.
Он продолжал энергично счищать снег, пока женщины со смехом поднимались по лестнице, направляясь в дамскую раздевальню. Легкая бахрома снега как пелерина лежала на его пальто, а на галошах снег налип, словно накладной носок; когда же пуговицы со скрипом стали просовываться в обледеневшие петли, из складок и впадин в заиндевелом ворсе пахнуло душистым холодком.
– Разве снег опять пошел, мистер Конрой? – спросила Лили.
Она прошла впереди него в чулан, чтоб помочь ему раздеться. Габриел улыбнулся тому, как она произнесла его фамилию: словно она была из трех слогов, и посмотрел на нее. Она была тоненькая, еще не совсем сформировавшаяся девушка, с бледной кожей и соломенного цвета волосами. В свете газового рожка в чулане она казалась еще бледней. Габриел знал ее, еще когда она была ребенком и любила сидеть на нижней ступеньке лестницы, нянча тряпичную куклу.
– Да, Лили, – сказал он, – опять пошел и уже, должно быть, на всю ночь.
Он взглянул на потолок, сотрясавшийся от топота и шарканья ног в верхнем этаже; с минуту он прислушивался к звукам рояля, потом посмотрел на девушку, которая, свернув пальто, аккуратно укладывала его на полку.
– Скажи-ка, Лили, – спросил он дружеским тоном, – ты все еще ходишь в школу?
– Что вы, сэр, – ответила она, – я уже год как окончила школу, даже больше.
– Вот как, – весело сказал Габриел, – стало быть, скоро будем праздновать твою свадьбу, а?
Девушка посмотрела на него через плечо и ответила с глубокой горечью:
– Нынешние мужчины только языком треплют и норовят как-нибудь обойти девушку.
Габриел покраснел, словно почувствовав, что допустил какую-то бестактность, и, не глядя на Лили, сбросил галоши и усердно принялся концом кашне обмахивать свои лакированные туфли.
Он был высокого роста и полный. Румянец с его щек переползал даже на лоб, рассеиваясь по нему бледно-красными бесформенными пятнами. На его гладко выбритом лице беспокойно поблескивали круглые стекла и новая золотая оправа очков, прикрывавших его близорукие и беспокойные глаза. Его глянцевитые черные волосы были расчесаны на прямой пробор и двумя длинными прядями загибались за уши; кончики завивались немного пониже ложбинки, оставленной шляпой.
Доведя свои туфли до блеска, он выпрямился и одернул жилет, туго стягивавший его упитанное тело. Потом быстро достал из кармана золотой.
– Послушай, Лили, – сказал он и сунул монету ей в руку, – сейчас ведь рождество, правда? Ну так вот… это тебе…
Он заспешил к двери.
– Нет, нет, сэр! – воскликнула девушка, бросаясь за ним. – Право же, сэр, я не могу…
– Рождество! Рождество! – сказал Габриел, почти бегом устремляясь к лестнице и отмахиваясь рукой.
Девушка, видя, что он уже на ступеньках, крикнула ему вслед:
– Благодарю вас, сэр.
Он подождал у дверей в гостиную, пока окончится вальс, прислушиваясь к шелесту юбок, задевавших дверь, и шарканью ног. Он все еще был смущен неожиданным и полным горечи ответом девушки. У него остался неприятный осадок, и теперь он пытался забыть разговор, поправляя манжеты и галстук. Потом он достал из жилетного кармана небольшой клочок бумаги и прочел заметки, приготовленные им для застольной речи. Он еще не решил насчет цитаты из Роберта Браунинга[100]; пожалуй, это будет не по плечу его слушателям. Лучше бы взять какую-нибудь всем известную строчку из Шекспира или из «Мелодий»[101]. Грубое притоптывание мужских каблуков и шарканье подошв напомнили ему, что он выше их всех по развитию. Он только поставит себя в смешное положение, если начнет цитировать стихи, которые они не способны понять. Они подумают, что он старается похвалиться перед ними своей начитанностью. Это будет такая же ошибка, как только что с девушкой в чулане. Он взял неверный тон. Вся его речь – это сплошная ошибка, от первого слова до последнего, полнейшая неудача.