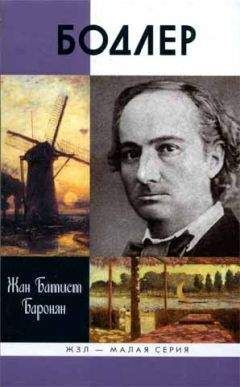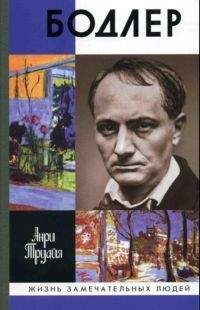Когда дверь внизу открылась, люди сплошным потоком понеслись вниз по лестнице, которая оказалась необычайно узкой и могла вместить в ширину не более одного человека. Однако они как-то умудрялись спускаться вниз чуть ли не по трое в ряд. Это был трудный и болезненный процесс. Толпа походила на бурлящую воду, пробивающуюся через единственный крохотный выход. Стоявшие сзади, возбужденные успехом передних, делали неистовые усилия, чтобы протолкнуться вперед. Они опасались, что на всех не хватит места и многие останутся на мостовой. Очутиться там было бы бедствием, и поэтому бездомные, в лица которым хлестал снег, извивались и крутились что есть сил. Можно было ожидать, что в этой страшной давке узкий проход к двери в нижнем этаже будет так запружен и забит человеческими телами, что движение вообще прекратится. И действительно, один раз толпе пришлось остановиться. Пронесся слух, что у подножия лестницы ранили человека. Но вскоре медленное движение возобновилось; наверху, на площадке лестницы, полисмен боролся, стараясь ослабить нажим на тех, кто спускался вниз.
Красноватый свет падал из окна на лица людей, когда они по очереди подходили к последним трем ступенькам и уже собирались войти. В этот момент в глаза бросалась перемена в выражении их лиц. На пороге осуществления своих надежд они вдруг обретали удовлетворенный и самодовольный вид. Их взоры больше не пылали огнем, а с губ уже не срывались злые и циничные слова. На раздражавший их прежде натиск они смотрели уже с другой точки зрения, так как было ясно, что теперь они пройдут через эту маленькую дверь туда, где свет манил радостью и теплом.
Мечущаяся по тротуару толпа становилась все меньше и меньше. Снег с безжалостной настойчивостью хлестал по склоненным головам тех, кто ждал. Ветер взметал его с мостовых, неистово крутил в бешеном белом вихре и со свистом кружился вокруг толпившихся людей, один за другим или сразу по трое уходивших из вьюги.
Перевод Ю. ГальпернБыл поздний вечер, неслышно моросил мелкий дождь, и мостовая блестела в лучах бесчисленных огней стальными, желтыми и голубыми отсветами. Какой-то юноша, глубоко засунув руки в карманы, медленно и отупело брел по улице, направляясь к той части города, где за несколько центов можно получить на ночь койку. На нем был ветхий, давно уже превратившийся в лохмотья костюм, а его грязная, с обтрепанными полями шляпа приобрела совсем фантастический вид. Голод и жажда сна гнали его вперед, как гонят они вперед всех голодных и бездомных. Когда он добрался до Сити-Холл-парка, визгливые выкрики мальчишек: «Нищий, бродяга!» и другие столь же нелестные прозвища облепили его, казалось, с головы до пят, и он находился в состоянии глубокого уныния. Мелкий, сеявший словно из сита дождь насквозь промочил потертый бархатный воротник его пиджака, и когда он почувствовал на шее прикосновение мокрой ткани, жизнь окончательно потеряла для него всякую привлекательность. Он огляделся вокруг, ища еще такого же отщепенца, который мог бы разделить с ним его невзгоды, но скамейки, стоявшие вдоль аллей и вокруг мокрых газонов и блестевшие от дождя в дрожащем свете фонарей, были пусты. Они отдыхали от своего обычного ночного груза — как видно, их завсегдатаи нашли для себя что-нибудь поудобнее на эту ночь. Только кучки элегантно одетых бруклинцев стекались со всех сторон в направлении моста.
Некоторое время юноша бесцельно слонялся по парку, а потом побрел дальше по Парк-роу, с трудом волоча ноги. Внезапно он испытал облегчение — произошла перемена в окружающей обстановке, и он снова почувствовал себя как бы дома: перед ним мелькали лохмотья под стать его собственным. На Чатам-сквере кучки людей бесцельно торчали перед дверями баров и ночлежных домов — унылые, терпеливые, похожие на цыплят, застигнутых ливнем: Он присоединился к ним и не спеша, озираясь по сторонам, погрузился в людской поток, струившийся вдоль большой улицы.
В тумане холодной, ветреной ночи молчаливой вереницей проносились вагоны трамвая: огромные, сверкающие киноварью и медью, мощные в своем стремительном движении, спокойные и неотвратимые, мрачные и угрожающие, они изредка нарушали тишину громким, яростным визгом звонков. Два людских потока бурлили на покрытых грязью тротуарах, и башмаки прохожих оставляли в грязи отпечатки, напоминающие шрамы. Поезда надземной железной дороги с резким скрежетом колес останавливались у виадука. Столбы его были как лапы, и он, словно чудовищный краб, раскорячился над улицей. Слышно было глухое, тяжкое пыхтенье паровозов. А в глубине переулков висели, казалось, мрачные, пурпурно-черные занавесы с вышитыми на них тусклыми цветами слабо мерцавших фонарей.
Бар на углу улицы походил на прожорливую пасть. Вывеска над входной дверью возвещала: «Сегодня горячий суп бесплатно!» Створки дверей раскрывались, как алчные губы, удовлетворенно чмокая всякий раз, как бар заглатывал очередного посетителя, пожирая их одного за другим с беспримерным и ненасытным аппетитом, наглой усмешкой встречая людей, стекавшихся сюда со всех сторон, подобно жертвам какого-то языческого ритуала.
Привлеченный заманчивой вывеской, юноша дал себя проглотить. Хозяин бара поставил на стойку кружку зловеще черного пива. Она воздвигалась, подобно монументу. Увенчавшая ее шапка пены переросла голову юноши.
— Суп там, господа! — гостеприимно провозгласил хозяин бара. Маленький человечек с желтым, как лимон, лицом, одетый в лохмотья, и только что вошедший юноша схватили свои кружки и торопливо направились к стойке, где буфетчик с сальными, но весьма внушительными усами, любезно зачерпнув что-то из котла, отпустил им подаяние в виде супа, от которого шел густой пар и в котором плавало нечто отдаленно напоминавшее кусочки куриного мяса. Юноша, хлебая свой суп, воспринял теплоту этой жижи как некое выражение радушия и, улыбаясь, посмотрел на человека с сальными, но внушительными усами, который стоял за стойкой, словно священник перед алтарем. «Хотите еще, господа?» — обратился тот к двум маячившим перед ним жалким фигурам. Желтолицый человечек изъявил свое согласие, проворно подставив миску, но юноша покачал головой и направился к выходу следом за каким-то оборванцем, который поразил его своим нищенским видом, — можно было не сомневаться, что у того имеются обширные познания по части дешевых ночлежек.
На улице юноша заговорил с оборванцем:
— Послушай, не знаешь ли, где можно дешево переночевать?
Оборванец ответил не сразу. Он поглядел по сторонам. Потом кивнул куда-то в темноту.
— Я сплю там, — сказал он, — когда у меня есть деньги.
— А сколько нужно?
— Десять центов.
Юноша уныло покачал головой:
— Это мне не по карману.
Тут к ним, пошатываясь, подошел странно одетый человек. Голова его представляла собой хаос всклокоченных волос и бакенбард, из которого, воровато кося, выглядывали глаза. Присмотревшись внимательнее, можно было различить жесткую линию рта, твердо и плотоядно сомкнутые губы, словно он только что проглотил что-то нежное и беспомощное. У него было лицо убийцы, закосневшего в неуклюже и грубо совершаемых преступлениях.
Но сейчас голос его был настроен на льстивый тон, и вид напоминал ластящуюся собачонку. Заискивающе поглядев на них, он завел свою несложную песенку попрошайки:
— Джентльмены, подайте два-три цента бедному парню на ночлег. У меня есть пять, еще два — и я получу койку. По чести, джентльмены, не можете ли вы одолжить мне два цента на ночлег? Тяжело, знаете ли, приходится порядочному человеку, когда не повезет. Вот я…
Оборванец, бесстрастно глядя на поезд, с грохотом проносившийся над головой, равнодушно прервал его:
— Пошел к черту!
Но юноша удивленно спросил этого убийцу-горемыку:
— Спятил ты, что ли? Ты бы клянчил у тех, у кого набиты карманы.
Убийца, пошатываясь на ослабевших ногах и время от времени махая руками у себя перед носом, словно отстраняя какие-то незримые помехи, пустился в пространные психологические разглагольствования. Они были столь глубокомысленны, что понять их оказалось невозможным. Когда он исчерпал эту тему, юноша сказал:
— Покажи-ка свои пять центов.
При этих исполненных недоверия словах на лице убийцы изобразилась пьяная скорбь. С видом жестоко оскорбленного человека он начал рыться в своих лохмотьях; его красные руки дрожали. Наконец он произнес с глубокой печалью, точно обнаружив обман:
— Вот, тут только четыре.
— Четыре, — задумчиво повторил юноша. — Ладно, я здесь впервые. Если ты доставишь меня в твое дешевое логово, я добавлю тебе три.
Лицо убийцы просияло от радости. Усы зашевелились под наплывом приличествующих случаю переживаний. В порыве восторженного дружелюбия он схватил юношу за руку.