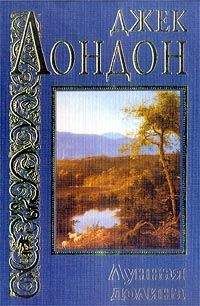— Разве можно так говорить! — остановил его Том.
— Теперь уже не до разговоров, старина, — возразил Берт, — теперь надо бороться.
— Не много ты сделаешь против регулярных войск и пулеметов! — вмешался Билл.
— О, я не об этом! — возразил Берт. — Но ведь есть такие короткие палочки, которые очень громко взрываются и делают большие дыры; есть порошок, который…
— Ах, так! — накинулась на него Мери, подбоченившись. — Вот в чем дело! Вот какую гадость я нашла у тебя в кармане!
Берт сделал вид, что не слышит. Том курил с озабоченным видом. Лицо Билла выражало тревогу.
— Но ведь не станешь же ты заниматься такими делами, Берт? — спросил он, видимо, надеясь услышать отрицательный ответ.
— Стану наверняка, если хочешь знать. Я бы их всех отправил к чертям в ад, прежде чем сам подохну!
— Он настоящий кровожадный анархист, — заохала Мери. — Вот такие, как он, убили Мак-Кинли и Гарфилда note 4 и… и… всех других. Его повесят. Увидите. Попомните мои слова! Хорошо, что у нас пока хоть детей не предвидится.
— Да он только так, болтает, — попытался ее успокоить Билл.
— Он просто дразнит тебя, — сказала Саксон. — Берт ведь любит пошутить.
Но Мери покачала головой.
— Нет, уж позвольте мне знать. Я слышу, что он бормочет во сне. Ругается, клянется, скрипит зубами. Вот опять!
Берт с ухарским выражением на красивом лице откачнул свой стул к стене и снова запел:
Противен нам мил-ли-о-нер…
Том снова заговорил было о благоразумии и справедливости, но Берт, оборвав пение, опять наскочил на него:
— Справедливость? Очередная дурацкая выдумка! Я вам скажу, какая для рабочего класса существует справедливость. Помните Форбса? Аллистона Форбса, еще он довел калифорнийский Альта-трест до банкротства и спокойно положил себе в карман два миллиончика чистоганом! Так вот, я видел его вчера в шикарном автомобиле. А ведь он был под судом и получил восемь лет. Сколько же он просидел? Меньше двух — и был прощен по слабости здоровья. Это он-то — по слабости здоровья! Мы и умрем и сгнить успеем, пока он подохнет. А вот посмотрите-ка в окно. Видите задний фасад того дома со сломанными перилами у крыльца? Там живет миссис Дэнэкер. Она занимается стиркой. Ее мужа раздавило поездом, а вознаграждения от дороги — ни шиша! Все дело обернули так, что будто он сам виноват, — небрежность и прочий вздор. Суд так и постановил. Ее сыну Арчи было шестнадцать, он совсем от рук отбился — настоящий маленький бродяга, удрал во Фресно и обокрал пьяного. И знаете, сколько он украл! Два доллара восемьдесят центов. Понимаете? Два восемьдесят! А к чему его приговорил судья? К пятидесяти годам. Восемь он уже отсидел в Сен-Квентине. И будет сидеть, пока не околеет. Миссис Дэнэкер говорит, что у него развивается скоротечная чахотка, — заразился в тюрьме, — но у нее нет протекции, и она не может добиться его освобождения. Арчи, мальчик, стибрил у пьяного два доллара восемьдесят центов и получил пятьдесят лет тюрьмы, а Аллистон Форбс нагревает Альта-трест на два миллиона — и сидит меньше двух лет! Так вот, скажите, для кого эта страна — мать? Для вас и маленького Арчи? Нет, простите! Для Аллистона Форбса — вот для кого, а нам она — мачеха! О!..
Никто не любит мил-ли-о-неров…
Подойдя к раковине, у которой Саксон домывала посуду, Мери сняла с нее фартук и поцеловала с той особой нежностью, какую каждая женщина питает к той, которая ожидает ребенка.
— Ты теперь посиди, милочка, тебе нельзя утомляться; они еще не скоро кончат. Я принесу тебе твою работу, и можешь шить и слушать их разговоры. Только не слушай Берта. Он сумасшедший.
Саксон стала шить и слушать, а на лице Берта, когда он увидел детские вещицы, разложенные у нее на коленях, появилось выражение горечи и злости.
— Ну вот, — сказал он, — рожаете детей, а как вы их прокормите — неизвестно!
— Ты, должно быть, вчера вечером здорово хватил, — добродушно осклабился Том.
Берт покачал головой.
— Да будет тебе ворчать, — добродушно заметил Билл. — Все-таки Америка — хорошая страна.
— Была, — возразил Берт, — и очень хорошая, когда все мы были могиканами. Но теперь? Нас скрутили в бараний рог, нас предали и загнали в тупик. Мои предки боролись за этот край с оружием в руках и ваши тоже, мы освободили негров, перебили индейцев, голодали, мерзли, сражались. Здешняя земля понравилась нам. Мы ее очистили от лесов, мы вспахали ее, провели дороги, построили города. И всем хватало с избытком. И мы продолжали сражаться за нее. У меня убили двух дядей при Геттисберге; все мы так или иначе участвовали в той войне. Послушайте, что Саксон рассказывает про своих предков, через какие трудности они прошли, пока, наконец, не обзавелись усадьбами, скотом, лошадьми и прочим. И они всего этого добились. Мои предки тоже и предки Мери…
— И удержали бы и свои усадьбы и остальное, кабы поумнее были, — вставила она.
— Несомненно, — продолжал Берт, — в этом вся соль. А мы все упустили, позволили себя ограбить. Мы не умели играть краплеными картами и подтасовывать их, как делали другие. Мы те белые люди, которые дали себя надуть — и остались ни с чем. Да и времена уже стали не те. Люди разделились на львов и кляч. Клячи только работали, львы — пожирали. Они захватили фермы, копи, фабрики и заводы, а теперь захватили и правительственную власть. Мы — те белые, вернее мы потомки тех белых, которые остались честными себе в убыток. И мы проиграли. С нас содрали шкуру. Понимаете?
— Ты был бы хорошим оратором на митингах, — заметил Том, — если бы отказался от кое-каких заскоков.
— Все это как будто и так, Берт, — заметил Билл, — да не совсем. Нынче каждый может стать богатым.
— И президентом Соединенных Штатов! — насмешливо подхватил Берт. — Спору нет, если он ловкач. Только что-то не слышно, чтобы ты стал миллионером или президентом. А почему? Да потому, что ты не ловкач. Ты дуралей. Ты кляча. Ну и пропади ты пропадом! Да и всем нам туда же дорога!
За обедом, во время еды. Том рассказывал о радостях деревенской жизни, памятной ему с юных дней, и признался, что у него одна мечта: взять себе где-нибудь участок казенной земли, как делали его деды. Но, к несчастью, объяснил он, Сара против, поэтому его мечта останется мечтой.
— Такова уж игра, которую мы зовем жизнью, — вздохнул Билл. — У нее свои правила, кто-нибудь непременно должен потерпеть поражение.
Немного спустя, когда Берт снова увлекся и начал произносить обличительные речи, Билл поймал себя на ряде невольных сравнений. Этот дом был не похож на его дом. Здесь не чувствовалось той приятной атмосферы, к какой он привык у себя. Все, казалось, идет как-то негладко. Он вспомнил, что, когда они пришли, посуда от завтрака была еще не вымыта. Как мужчина, он, конечно, многих хозяйственных недочетов не заметил, но все утро размышлял и сравнивал и по тысячам примет убеждался, что Мери не такая хорошая хозяйка, как его Саксон. Он с гордостью поглядел на жену, и ему захотелось встать со стула, подойти и обнять ее. Да, вот это настоящая жена! Он вспомнил ее нарядное белье. Но в ту минуту, когда он мысленно любовался ею, голос Берта грубо нарушил его раздумье.
— Ты, Билл, видно, думаешь, что я просто обозлился. И это верно. Я злюсь. Ты не пережил того, что я. Ты всегда только и делал, что правил своими лошадьми да зарабатывал легкие денежки боксом. Ты не знаешь, что такое безработица, ты не участвовал в больших забастовках. У тебя не было старухи матери, тебе не приходилось получать плевки и ради нее смиряться и молчать. Только после ее смерти я поднял голову и почувствовал себя свободным.
Возьми хотя бы то, как со мной поступили в Найлской электрической компании, как там обращаются с нашим братом. Пришел я, управляющий оглядел меня с головы до ног, закидал нелепыми вопросами и дал, наконец, бланк для подачи заявления. Я заполнил его и истратил доллар на доктора, чтобы получить свидетельство о том, что я здоров. Затем пошел к фотографу и снял свою рожу для их портретной галереи. Отдал еще доллар. Потом управляющий берет у меня заявление, медицинское свидетельство, фотокарточку и опять задает вопросы. Прежде всего — принадлежал ли я когда-нибудь к какому-нибудь рабочему союзу? Это я-то! Конечно, я не мог ему ответить правду — работа была нужна до зарезу, в лавочке больше в долг не давали, а тут мать…
«Ну, — подумал я, — наконец-то мне подвезло. Теперь я вагоновожатый. Стой себе на передней площадке да перемигивайся с хорошенькими девочками». Однако ничего подобного! Плати еще два доллара — два доллара за дрянной оловянный значок! Потом за форменную куртку, — здесь за нее надо было отдать девятнадцать с половиной долларов, а в другом месте я бы купил точно такую же за пятнадцать. Правда; они соглашались подождать до первой получки. Кроме того, оказывается, надо иметь в кармане пять собственных долларов мелочью. Я занял их у знакомого полисмена Тома Донована. А потом? Потом они заставили меня работать две недели бесплатно, пока я будто бы обучался.