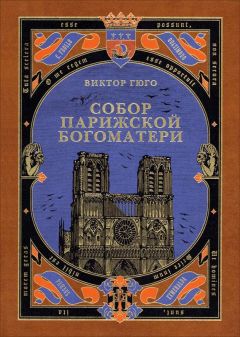Для всех, кто знал о существовании Квазимодо, Собор Богоматери кажется теперь пустынным, бездыханным, мертвым. Что-то отлетело от него. Исполинское тело храма опустело; это только остов; дух покинул его, осталась лишь оболочка. Так в черепе глазные впадины еще зияют, но взор угас навеки.
И все же был на свете человек, на которого Квазимодо не простирал свою злобу и ненависть, которого он любил так же, а быть может, даже сильней, чем собор. Это был Клод Фролло.
Причина ясна. Клод Фролло подобрал его, усыновил, вскормил, воспитал. Квазимодо еще ребенком привык находить у ног Клода Фролло убежище, когда его преследовали собаки и дети. Клод Фролло научил его говорить, читать и писать. Наконец Клод Фролло сделал его звонарем. Обручить Квазимодо с большим колоколом — это значило отдать Ромео Джульетту.
Признательность Квазимодо была глубока, пламенна и безгранична; и хотя лицо его приемного отца часто бывало сумрачно и сурово, хотя обычно речь его была отрывиста, суха и повелительна, но сила признательности не ослабевала в Квазимодо. Архидьякон имел в его лице покорного раба, исполнительного слугу, бдительного сторожевого пса. Когда несчастный звонарь оглох, между ним и Клодом Фролло установился таинственный язык знаков, понятный им одним. Архидьякон был единственный человек, с которым Квазимодо мог общаться. В этом мире он был связан лишь с Собором Парижской Богоматери да с Клодом Фролло.
Ничто на свете не могло сравниться с властью архидьякона над звонарем и привязанностью звонаря к архидьякону. По одному знаку Клода, из одного желания доставить ему удовольствие, Квазимодо готов был ринуться вниз головой с высоких башен собора. Казалось странным, что физическая сила Квазимодо, достигшая необычайного развития, слепо подчинена другому человеку. В этом сказывались не только сыновняя привязанность и преданность слуги господину, но и непреодолимое влияние более сильного ума. Убогий, неуклюжий, неповоротливый разум взирал с мольбой и смирением на ум возвышенный и проницательный, могучий и властный.
Но над всем этим господствовало чувство признательности, доведенной до такого предела, что ее трудно с чем-либо сравнить. Среди людей примеры этой добродетели чрезвычайно редки. Поэтому скажем лишь, что Квазимодо любил архидьякона так сильно, как ни собака, ни конь, ни слон никогда не любили своего господина.
V. Продолжение главы о Клоде Фролло
В 1482 году Квазимодо было около двадцати лет, Клоду Фролло — около тридцати шести. Первый возмужал, второй начал стареть.
Клод Фролло уже не был наивным школяром Торши, нежным покровителем беспомощного ребенка, юным мечтательным философом, который много знал, но о многом еще не подозревал. Теперь это был строгий, суровый, угрюмый священник, блюститель душ, архидьякон Жозасский, второй викарий епископа, управлявший двумя благочиниями, Монлерийским и Шатофорским, и ста семьюдесятью четырьмя сельскими приходами. Это была важная и мрачная особа, перед которой трепетали и маленькие певчие в стихарях и курточках, и взрослые церковные певчие, и братия святого Августина, и причетники ранней обедни Собора Богоматери, когда он, величавый, задумчивый, скрестив руки на груди и так низко склонив голову, что виден был лишь его большой облысевший лоб, медленно проходил под высоким стрельчатым сводом хоров.
Однако Клод Фролло не забросил ни науки, ни воспитания своего юного брата — двух главных занятий своей жизни. Но с течением времени какая-то горечь примешалась к этим сладостным обязанностям. В конце концов, как утверждает Павел Диакон, и наилучшее сало горкнет. Маленький Жеан Фролло, прозванный Мельником в честь мельницы, на которой он был вскормлен, развился вовсе не в том направлении, какое наметил для него Клод. Старший брат рассчитывал, что Жеан будет набожным, покорным, любящим науку, достойным уважения учеником. А между тем, подобно деревцам, которые наперекор стараниям садовника упорно тянутся в ту сторону, где воздух и солнце, — младший брат рос и развивался, давая чудесные пышные и мощные побеги лишь в сторону лени, невежества и распутства. Это был сущий чертенок, до ужаса непослушный, что заставляло грозно хмурить брови отца Клода, но зато очень забавный и очень умный, что заставляло старшего брата улыбаться.
Клод доверил воспитание младшего брата коледжу Торши, где в занятиях и размышлениях сам провел свои юные годы; и для него явилось большим огорчением, что имя Фролло, когда-то делавшее честь святилищу науки, теперь стало предметом соблазна. Иногда он читал Жеану строгие и пространные нравоучения, которые тот мужественно выслушивал. Впрочем, юный повеса обладал добрым сердцем, как это обычно бывает во всех комедиях. Выслушав назидание, он как ни в чем не бывало вновь принимался за свои похождения и дебоши. То начинал потасовку, в честь его прибытия, с «желторотым» (так называли в Университете новичков), соблюдая благородную традицию, бережно сохраняющуюся до наших дней. То подстрекал школяров, и те, quasi classico excitati[53], атаковали по всем правилам кабачок, избивали кабатчика деревянными рапирами и с хохотом громили таверну, вышибая напоследок днища винных бочек. К отцу Клоду являлся младший наставник коледжа Торши и с постной физиономией вручал составленный на великолепной латыни отчет со следующей горестной пометкой на полях: «Rixa; prima causa vinum optimum potatum»[54]. Поговаривали даже о том, что распущенность Жеана частенько доводила его и до улицы Глатиньи, что шестнадцатилетнему юноше было совсем не по возрасту.
Вот почему опечаленный Клод, разочаровавшись в своих человеческих привязанностях, с еще большим увлечением отдался науке, этой сестре, которая по крайней мере не издевается над вами и за внимание к ней вознаграждает вас, правда, иногда довольно стертой монетой. Он становился все более сведущим ученым и вместе с тем, что вполне естественно, — все более суровым священнослужителем и все более мрачным человеком. В каждом из нас существует гармония между нашим непрерывно развивающимся умом, склонностями и характером, и нарушается она лишь во время сильных душевных потрясений.
Так как Клод Фролло уже в юности прошел почти весь круг гуманитарных положенных и внеположенных законом наук, то он вынужден был либо поставить себе предел там, ubi defuit orbis[55], либо идти дальше, в поисках иных средств для утоления своей ненасытной жажды познания. Древний символ змеи, жалящей собственный хвост, более всего применим к науке. По-видимому, Клод Фролло убедился в этом на личном опыте. Многие серьезные люди утверждали, что, исчерпав все fas[56] человеческого познания, он осмелился проникнуть в nefas[57]. Говорили, что, последовательно вкусив от всех плодов древа познания, он, то ли не насытившись, то ли пресытившись, кончил тем, что дерзнул вкусить от плода запретного. Читатели помнят, что он принимал участие в совещаниях теологов Сорбонны, в философских собраниях при Сент-Илер, в диспутах докторов канонического права при Сен-Мартен, в конгрегациях медиков при «Кропильнице Богоматери», ad cupam Nostrae Daminae. Он проглотил все разрешенные и одобренные кушанья, которые эти четыре громадные кухни, именуемые четырьмя факультетами, могли изготовить и предложить разуму, и пресытился ими, прежде чем успел утолить свой голод. Тогда он проник дальше, глубже, в самое подземелье этой законченной материальной ограниченной науки. Быть может, он даже поставил свою душу на карту ради того, чтобы принять участие в мистической трапезе алхимиков, астрологов и герметиков за столом, верхний конец которого в средние века занимали Аверроэс, Гильом Парижский и Никола Фламель, а другой, затерявшийся на Востоке и освещенный семисвечником, достигал Соломона, Пифагора и Зороастра.
Справедливо или нет, но так по крайней мере предполагали люди.
Достоверно известно, что архидьякон нередко посещал кладбище Невинных, где покоились его родители вместе с другими жертвами чумы 1466 года; но там он как будто не так усердно преклонял колени перед крестом на их могиле, как перед странными изваяниями над возведенными рядом гробницами Никола Фламеля и Клода Пернеля.
Достоверно известно и то, что его часто видели на Ломбардской улице, где он украдкой проскальзывал в домик на углу улицы Писателей и Мариво. Этот дом выстроил Никола Фламель; там он и скончался около 1417 года. С тех пор домик пустовал и начал уже разрушаться, до такой степени герметики и искатели философского камня всех стран исскоблили его стены, вырезая на них свои имена. Соседи утверждали, что видели через отдушину, как однажды архидьякон Клод рыл, копал и пересыпал землю в двух подвалах, каменные подпоры которых были исчерчены бесчисленными стихами и иероглифами самого Никола Фламеля. Полагали, что Фламель зарыл здесь философский камень. И вот в течение двух столетий алхимики, начиная с Мажистри и кончая Миротворцем, до тех пор ворошили там землю, пока дом, столь безжалостно перерытый и чуть не вывернутый наизнанку, не рассыпался наконец прахом под их ногами.