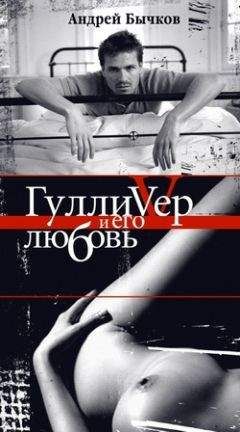ворочающуюся змею. Он боялся ее, но хотя она была в нем, казалось, что она где-то бесконечно далеко, и беспокоило его только одно: холод.
Холод пронизывал его насквозь, режущий холод, который не хотел его отпускать, и он теперь лежал спокойно и прислушивался к ощущению холода. Одно время ему казалось, что, если он сумеет сложиться пополам, ему станет тепло, как под одеялом, и ему даже показалось, что он сумел сложиться так, и он уже почувствовал тепло. Но на самом деле это было кровотечение, которое он вызвал, подняв колени; и когда ощущение тепла прошло, он понял, что сложиться пополам невозможно и что с холодом ничего поделать нельзя и не стоит сопротивляться. Он лежал, изо всех сил стараясь не умереть как можно дольше после того, как уже остановятся мысли. Лодка поворачивалась на волнах, и он теперь был в тени, и ему становилось все холоднее.
Лодку несло течением с десяти часов вечера, а теперь было уже далеко за полдень. На всей поверхности Гольфстрима не было видно ничего, кроме морских водорослей, нескольких пухлых розовых медуз, плававших на поверхности воды, и далекого дымка танкерного судна, шедшего с грузом из Тампико на север.
— Ну? — сказал Ричард Гордон своей жене.
— У тебя губная помада на сорочке, — сказала жена. — И около уха.
— Что ты скажешь на это?
— Что я скажу на это?
— Что ты скажешь на то, что я тебя застал лежащей на диване с этим неумытым пьяницей?
— Это неправда.
— А как я вас застал?
— Ты нас застал сидящими на диване.
— В темноте.
— Где ты был?
— У Брэдли.
— Да, — сказала она. — Я знаю. Не подходи ко мне. От тебя пахнет этой женщиной.
— А от тебя чем пахнет?
— Ничем. Я сидела и разговаривала с хорошим знакомым.
— Ты его целовала?
— Нет.
— Он тебя целовал?
— Да, мне это было приятно.
— Ты сука.
— Если ты будешь меня так называть, я уйду от тебя.
— Ты сука.
— Пусть, — сказала она. — Все равно все кончено. Если б ты не был таким самонадеянным и если б я тебя так не жалела, ты бы понял, что все уже давно кончено.
— Ты сука.
— Нет, — сказала она. — Я не сука. Я старалась быть хорошей женой, но ведь ты самонадеян и себялюбив, как петух. Только и знаешь кукарекать: «Посмотри, что я сделал. Посмотри, какое я дал тебе счастье. Ты должна бегать вокруг меня и кудахтать». Так вот, ты мне вовсе не дал счастья, и с меня довольно. Я свое откудахтала.
— Тебе нечего кудахтать. Ты не произвела на свет ничего такого, над чем можно было бы кудахтать.
— Чья это вина? Разве я не хотела ребенка? Но мы никак не могли себе этого позволить. Зато мы могли себе позволить ездить на Кап-д'Антиб купаться и в Швейцарию ходить на лыжах. Мы могли себе позволить приехать сюда, в Ки-Уэст. С меня довольно. Ты мне опротивел. Эта толстая Брэдли сегодня была последней каплей.
— Ах, пожалуйста, не припутывай ее сюда!
— Человек приходит домой весь в губной помаде. Неужели ты не мог хоть умыться? Вон, на лбу тоже.
— Ты целовала это пьяное ничтожество.
— Нет, этого не было. Но было бы, если б я знала, чем ты в это время занимаешься.
— Почему ты позволяла ему целовать себя?
— Я была взбешена. Мы ждали, ждали, ждали. Ты даже не подошел ко мне. Ты ушел с этой женщиной и пропал на полдня. Джон проводил меня домой.
— Ах вот как, Джон?
— Да, Джон. Джон. ДЖОН.
— А фамилия его как? Томас?
— Его фамилия Мак-Уолси.
— А как это пишется — вместе или отдельно?
— Не знаю, — сказала она и засмеялась. Но потом она перестала смеяться. — Не воображай, что, раз я смеюсь, значит, все обошлось, — сказала она, на глазах у нее выступили слезы, губы дрожали. — Ничего не обошлось. Это не обычная ссора. Все кончено. У меня к тебе нет ненависти. Тут проще. Ты мне противен. Ты мне глубоко противен, и с меня довольно.
— Хорошо, — сказал он.
— Нет. Совсем не хорошо. Все кончено. Разве ты не понимаешь?
— Кажется, понимаю.
— Пусть тебе не кажется.
— Не устраивай мелодраму, Эллен!
— Это я устраиваю мелодраму? Ничего подобного. Просто я ухожу от тебя.
— Нет, ты не уйдешь.
— Я сказала. Больше повторять не буду.
— Что ты собираешься делать?
— Не знаю. Может быть, выйду за Джона Мак-Уолси.
— Не выйдешь.
— Выйду, если захочу.
— Он на тебе не женится.
— Не беспокойся, женится. Он только сегодня просил меня быть его женой.
Ричард Гордон ничего не сказал. Пустота образовалась у него на том месте, где раньше было сердце, и все, что он слышал или говорил, казалось нечаянно подслушанным.
— О чем он тебя просил? — сказал он голосом, который шел откуда-то издалека.
— Быть его женой.
— Зачем?
— Затем, что он меня любит. Затем, что он хочет, чтобы я жила с ним. Он зарабатывает достаточно, чтобы прокормить меня.
— Ты обвенчана со мной.
— Не по-настоящему. Не в церкви. Ты не хотел венчаться в церкви, и ты знаешь, что это разбило сердце моей бедной мамы. Я так была влюблена в тебя, что я разбила бы чье угодно сердце. Господи, какая же я была дура. Я и свое сердце разбила. Оно разбито, и у меня больше нет сердца. Все, во что я верила, все, чем я дорожила, я бросила ради тебя, потому что ты был такой необыкновенный и так сильно любил меня, что только любовь имела значение. Любовь была важнее всего на свете, верно? Любовь — это было то, что было только у нас и не могло быть ни у кого другого. И ты был гений, а я была вся твоя жизнь. Я была твой друг, твой маленький черный цветок. Чушь. Любовь — это просто гнусная ложь. Любовь — это пилюли эргоаппола, потому что ты боялся иметь ребенка. Любовь — это хинин, и хинин, и хинин до звона в ушах. Любовь — это гнусность абортов,