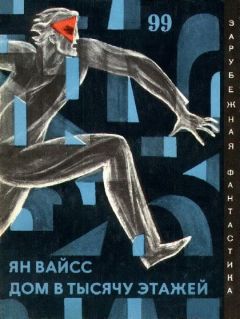Фаррабеш рассказал тем землякам, которые из христианского милосердия, пробужденного в них г-ном Бонне, охотно встречались с бывшим каторжником, о том, как благожелательно отнеслась к нему г-жа Граслен. Об этом стало известно всем крестьянам общины, собравшимся, по деревенскому обычаю, перед мессой на церковной площади. Ничто не могло вернее снискать ей дружбу этих столь чувствительных к добру сердец. Когда Вероника вышла из церкви, она увидела чуть ли не всех прихожан, стоявших двумя рядами вдоль дороги. Пока она проходила мимо них, каждый молча и почтительно ей кланялся. Она была тронута таким приемом, не подозревая об истинной его причине, — Фаррабеша она заметила одним из последних.
— Вы, говорят, искусный охотник, — сказала она ему, — приносите же нам дичь в замок.
Несколько дней спустя Вероника вместе со священником отправилась на прогулку в ближайшую к замку часть леса. Ей хотелось спуститься вниз по ступенчатым долинам, которые она заметила, стоя у дома Фаррабеша, и познакомиться с расположением верхних притоков Габу. В результате осмотра кюре сделал вывод, что воды, орошавшие часть верхнего Монтеньяка, сбегали с Коррезских гор. Эта цепь сообщалась с Монтеньяком через голые холмы, тянувшиеся параллельно Живой скале. Возвращаясь после прогулки, кюре радовался, как ребенок; с непосредственностью поэта он уже видел процветание своей любимой деревни. Разве не поэт — человек, который заранее видит воплощение своей мечты? Г-н Бонне представлял себе стога скошенного сена, указывая с высоты террасы на иссохшую, серую равнину.
На другой день Фаррабеш и его сын принесли полные сумки дичи. Лесник вырезал в подарок Франсису Граслену деревянную чашку — настоящее чудо, — изобразив на ней сражающихся воинов. Г-жа Граслен гуляла в это время по террасе, обращенной в сторону Ташронов. Она присела на скамью и, взяв чашку, залюбовалась искусной резьбой. На глазах ее выступили слезы.
— Вы, должно быть, много страдали, — сказала она Фаррабешу после долгого молчания.
— Что же делать, сударыня, — ответил он, — тяжко, когда сидишь там без всякой мысли о побеге, которая только и поддерживает жизнь всех заключенных.
— О, это ужасная жизнь, — жалобно промолвила она, взглядом и жестом приглашая Фаррабеша продолжать.
Фаррабеш приписал глубокое волнение г-жи Граслен горячему сочувствию к его судьбе и отчасти любопытству. В это время на дорожке появилась направлявшаяся к ним старуха Совиа; Вероника замахала носовым платком и сказала с необычной для нее резкостью:
— Оставьте меня, матушка!
— Сударыня, — продолжал Фаррабеш, — десять лет я носил, — он указал на свою ногу, — железное кольцо с цепью, которая приковывала меня к другому человеку. В течение моего срока их сменилось трое. Спал я на голых досках. Чтобы получить тощий матрац, который называли там блин, нужно было работать сверх всяких сил. В каждом бараке было по восемьсот человек. На каждых нарах помещалось по двадцать четыре человека, скованных попарно. Каждый вечер и каждое утро цепь каждой пары нанизывалась на общую длинную цепь, так называемую связку отбросов, которая шла вдоль нар и связывала ноги всех каторжников. Два года не мог я привыкнуть к звону цепей, твердившему непрестанно: ты на каторге! Только уснешь, как кто-нибудь из товарищей по несчастью повернется или толкнет тебя и снова напомнит, где ты находишься. Нужно пройти целую науку, пока приладишься засыпать. В общем, я узнал сон, лишь когда дошел до полного изнеможения. Научившись спать, я мог по крайней мере забыться хотя бы ночью. А там, сударыня, забвение дороже всего! Человеку, раз уж он попал туда, приходится удовлетворять самые ничтожные свои потребности в порядке, установленном жесточайшими правилами. Судите сами, сударыня, как ужасна была такая жизнь для парня, жившего всегда в лесу, словно птица или дикая коза. Не просиди я раньше полгода один в четырех стенах тюремной камеры, то, несмотря на прекрасные слова господина Бонне, который был поистине отцом моей души, я бы бросился в море от одного вида своих товарищей. На воздухе, во время работы, еще куда ни шло. Но когда нас загоняли в барак для сна или для еды — а ели мы из общих мисок, по три пары на каждую миску, — я чувствовал, что умираю; свирепые лица и речи моих товарищей всегда внушали мне отвращение. К счастью, с пяти часов в летнее время и с половины восьмого зимними месяцами, невзирая на холод, ветер, жару или дождь, мы отправлялись гнуть спину, то есть работать. Бóльшая часть жизни проходит там на свежем воздухе, и как хорошо дышится, когда выходишь из барака, в котором набито восемьсот человек! А воздух там, заметьте, морской. Тебя обдувают бризы, греет солнце, смотришь на проплывающие облака, любуешься прекрасным днем. А мне еще и нравилась моя работа.
Фаррабеш остановился, увидев две крупные слезы, пробежавшие по щекам Вероники.
— О сударыня, я ведь рассказывал вам только о розах этого существования! — воскликнул он, подумав, что печаль г-жи Граслен вызвана его рассказом. — Все жестокие меры предосторожности, которые принимает государство, непрестанная слежка со стороны надзирателей, проверка кандалов каждый вечер и каждое утро, грубая пища, отвратительная, унижающая вас одежда, неудобства, мешающие сну, гром четырех сотен кандалов в гулком помещении, угроза расстрела, если каким-нибудь негодяям взбредет на ум взбунтоваться, — все это еще ничего: это еще розы, как я уже сказал вам. Если попадет туда, по несчастью, какой-нибудь буржуа, он долго не выдержит. Все время быть прикованным к другому человеку! Терпеть близость пяти каторжников во время еды и двадцати трех — во время сна, слушать их разговоры! В этом обществе, сударыня, действуют свои тайные законы; попробуйте не подчиниться им — вас убьют; но если подчинитесь, вы будете убийцей! Надо стать или палачом, или жертвой!
В конце концов, убей они тебя сразу, ты избавился бы от этой жизни. Но они мастера злодейства, от ненависти этих людей уйти невозможно. Они пользуются полной властью над неугодным им каторжником и могут превратить его жизнь в непрерывную пытку, которая страшнее смерти.
Человек, который раскаялся и хочет хорошо вести себя, — общий враг. Прежде всего его начинают подозревать в предательстве. За предательство карают смертью по малейшему подозрению. В каждом бараке есть свой трибунал, который судит преступления, совершенные против общества. Не подчиняться обычаям каторги преступно, и человек в таком случае подлежит суду. Например, все должны содействовать каждому побегу; если каторжник назначил час для побега, то в этот час вся каторга должна оказывать ему помощь и покровительство. Раскрыть, что кто-нибудь готовится к бегству, — преступление.
Я не стану рассказывать вам об ужасных нравах каторги; там, буквально, не принадлежишь сам себе. Начальники, стараясь предупредить попытки к бегству или к бунту, превращают кандалы в пытку и вовсе невыносимую: они сковывают одной цепью людей, которые друг к другу относятся с ненавистью или с недоверием.
— Как же вы выходили из положения? — спросила г-жа Граслен.
— О, мне повезло, — ответил Фаррабеш, — мне ни разу не выпал жребий убить другого заключенного, я ни разу не подавал голоса за чью бы то ни было смерть, меня никогда никто не наказывал и не ненавидел, и я ладил со всеми тремя сменявшимися товарищами по цепи, все они меня любили и боялись. Дело в том, сударыня, что слух обо мне дошел до каторги раньше, чем я туда прибыл. Поджариватель! Ведь я слыл одним из этих разбойников. Я видел, как поджаривают, — почти шепотом продолжал после паузы Фаррабеш, — но сам я всегда отказывался и поджаривать и получать награбленные деньги. Я скрывался от рекрутского набора, и только. Я помогал приятелям, я наводил их на след, сражался, стоял настороже или прикрывал отступление. Но если я и проливал человеческую кровь, то только защищая свою жизнь. Ах! Я все рассказал господину Бонне и своему адвокату, мои судьи хорошо знали, что я не убийца! Но все же я великий преступник, все мои дела были нарушением закона. Двое из моих приятелей рассказали на каторге, что я человек, способный на все. А на каторге, сударыня, такая репутация дороже денег. В этой республике несчастных убийство заменяет паспорт. Я не стал опровергать сложившееся обо мне мнение. Я был мрачен и подавлен; в выражении моего лица нетрудно обмануться, и многие обманывались. Мой нелюдимый нрав, моя молчаливость были приняты за признаки свирепости. Все — каторжники и надзиратели, старые и молодые, — уважали меня. Я был старостой своего барака, Никто не нарушал мой сон, и никогда меня не подозревали в предательстве. Согласно их правилам, я вел себя честно: никогда не отказывал в помощи, не проявлял ни к чему отвращения — одним словом, внешне я выл с волками по-волчьи, а в глубине души молился богу. Последним моим товарищем по цепи был двадцатидвухлетний солдат. Он совершил кражу и из-за этого дезертировал. Мы провели вместе четыре года и стали друзьями; я уверен, что когда он выйдет на волю, то больше не собьется с пути. Бедняга Гепен не был злодеем, он просто легкомысленный малый, за десять лет он научится уму-разуму. О, если бы мои приятели знали, что я покоряюсь своей участи из религиозных убеждений, что по истечении срока я собираюсь поселиться в укромном месте, позабыть весь этот ужасный сброд и никому из них не попадаться больше на глаза, они, наверное, довели бы меня до сумасшествия!