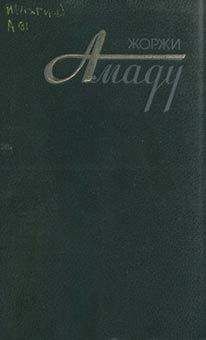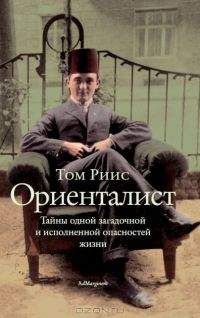Так размышлял я в одиночестве, глядя на стоящий передо мной стакан чая.
Нино изнывала от скуки, но я ничего не мог сделать. Ей захотелось встречаться с женами европейцев, живущих в Тегеране. Этого я допустить не мог — жена хана не должна общаться с женами неверных. Они начнут сочувствовать Нино, влачащей гаремное существование, и это только усугубит ее состояние…
Недавно она гостила у моих тетушек и вернулась оттуда в ужасе.
— Али хан, — кричала она, — они выспрашивали, по сколько раз в день ты одаряешь меня своей любовью. Мужья наговорили им, что ты все свое время проводишь со мной, и они не могут себе представить, что можно заниматься чем-то иным. И еще они дали мне снадобье против джинов и посоветовали носить амулет от сглаза. Утверждали, что это спасет меня от всех врагов. А твоя тетя Султан ханум уверяла, что мой молодой муж должен скучать, имея всего одну жену… И всех очень интересовало, как это я добиваюсь, что ты не ходишь к мальчикам-танцовщикам. А твоя двоюродная сестра Суата все выспрашивала, успел ли ты заразиться дурной болезнью или нет. Они в один голос твердили, что мне остается только завидовать. Ты слышишь это?
Я как мог старался утешить ее, а она забилась в угол, как обиженный ребенок, и долго не могла прийти в себя. Глаза ее были полны невыразимой тоской…
Чай совсем остыл, но я продолжал сидеть в чайхане, чтобы показать этим людям, что не провожу все свои дни в гареме. Здесь неодобрительно отнеслись бы к мужчине, настолько привязанному к своей жене. Если уж родня начала насмехаться надо мной… Мужчина должен отдавать жене лишь часть своего времени. Остальным временем он распоряжается по своему усмотрению. Но ведь я — единственная отдушина для Нино, я для неё и газета, и театр, и кофейни, и друг, и, кроме всего этого, муж. Потому я и не могу оставить ее одну, потому я и готов скупить для нее в подарок весь базар. К тому же сегодня дядя дает в честь отца большой прием, на котором будет присутствовать даже один из сыновей шаха, а Нино вынуждена будет оставаться дома в обществе евнуха, жаждущего заняться ее воспитанием.
Вернувшись в Шамиран, я нашел Нино сидящей на ковре и задумчиво перебиравшей мои покупки. Она спокойно и нежно поцеловала меня. Вошел слуга, поставил поднос с шербетом. Я заметил, с каким неодобрением он взглянул на лежащие перед Нино подарки: муж не должен так ублажать свою жену!
И тогда я вдруг почувствовал глубокую безнадежность…
Жизнь в Иране начинается по ночам. Ночью и люди живей, и мысли легче, и разговоры проще. Днем на все ложится тяжкий груз жары, пыли, грязи. Ночью же Иран словно преображается. Это совершенно иной мир, какого я не видел ни в Баку, ни в Дагестане, ни в Грузии. Этот исполненный благородства мир вызывал во мне восхищение.
Ровно в восемь к нашему дому подъехали кареты дяди. Одна — для меня, другая — для отца. Этого требовали нормы приличия. Перед каждой каретой стояло трое слуг с фонарями на высоких шестах. Это были скороходы, которым надлежало бежать впереди карет и освещать нам дорогу. Еще в молодости скороходам вырезали селезенку, и они были предназначены лишь для одного сопровождать кареты, грозно крича:
«Берегись!..»
И хотя по дороге нам никто не встретился, скороходы добросовестно исполняли свою обязанность. Дорога шла по узким улочкам вдоль седых глиняных стен, за которыми прятались казармы или маленькие домики, дворцы или конторы. Высокие заборы скрывают жизнь Ирана от глаз любопытных.
Залитые лунным светом купола базарных лавок походили на воздушные шары, собранные здесь чьей-то невидимой рукой.
Наши кареты остановились перед массивными бронзовыми воротами. Они торжественно распахнулись, и мы въехали во двор. Как-то я приезжал сюда один, и тогда здесь стоял всего лишь старенький привратник в драной одежде. Сегодня ворота были украшены гирляндами живых цветов, большие фонари освещали двор, а наши кареты поклонами встретили восемь слуг.
Широкий двор был разделен на две части невысоким забором. Во внутренней части располагался гарем. Там журчали фонтаны, заливались соловьи. На мужской половине двора был лишь простой прямоугольный бассейн с золотыми рыбками.
Мы вышли из карет. Дядя приветствовал нас у дверей церемонным поклоном и проводил в дом. Мы оказались в просторном зале с позолоченными колоннами, стены были облицованы деревянными панелями, украшенными затейливой резьбой.
Зал уже был полон гостей. В центре восседал горбоносый человек с совершенно седой головой и густыми пучками бровей. Это и был его высочество шахзаде. При нашем появлении все встали. Мы поздоровались сначала с шахзаде, потом с остальными и сели на мягкие тюфячки. Гости последовали нашему примеру. Около минуты мы так посидели, затем поднялись, вновь раскланялись друг с другом, после чего опять сели и погрузились в торжественное молчание. Слуги подали ароматный чай в голубых чашечках, корзины с фруктами. Первым нарушил молчание его высочество.
— Я много путешествовал, побывал во множестве стран, — проговорил он. — Но нигде не ел огурцов или персиков вкусней иранских.
С этими словами он взял ломтик огурца, посолил и медленно, с задумчивым видом съел его.
— Ваше высочество изволит быть совершенно правым, — отозвался дядя. Я тоже был в Европе и поражался — до чего же у них мелкие фрукты.
— Я всегда с радостью возвращаюсь в Иран, — вступил в разговор посол иранского шаха в одной из европейских стран. — Нет в мире ничего такого, чему могли бы позавидовать мы, иранцы. Весь остальной мир сплошь населен варварами.
— Быть может, еще некоторые индусы… — задумчиво заметил шахзаде. Много лет назад я путешествовал по Индии и встречался там с очень благородными людьми, получившими хорошее воспитание и своим культурным уровнем ничем нам не уступающими. Впрочем, хоть в чем-нибудь, но их варварство должно было проявиться. Мне довелось обедать с одним индийским аристократом, и представьте себе, он ел листья салата!
Гости изобразили на лицах полнейший ужас. Какой-то мулла в широкой эммаме, со ввалившимися щеками тихим, усталым голосом проговорил:
— Иранцев отличает от остальных то, что лишь мы можем по достоинству оценить красоту.
— Вы совершенно правы, — согласился дядя. — Я, например, прекрасную газель предпочту грохочущей фабрике и готов забыть, что Абу Сеил, который создал первые рубаи в нашей литературе, был неверным.
Дядя откашлялся и нараспев прочитал одну из рубай.
— Поразительно, поразительно! — воскликнул мулла. — Сколько гармонии! — и повторил последнюю строку рубаи.
Мулла поднялся, взял серебряный с узким горлышком кувшин для омовения и тихо вышел из зала. Отсутствовал он недолго. Вернувшись, поставил осторожно кувшин и сел на место.
— Ваше высочество, — обратился к шахзаде отец, — верно ли говорят, что наш премьер-министр Восуг-ад-Довле намерен заключить новый договор с Англией?
— Вам лучше спросить об этом Асада-ас-Салтане, — засмеялся шахзаде. Впрочем, это уже не является государственной тайной.
— Да, — подтвердил дядя, — это будет очень выгодный договор. Потому что отныне варвары станут нашими рабами.
— Почему?
— Вы ведь знаете, что англичане любят работать, а мы — наслаждаться прекрасным. Они любят сражения, а мы — покой. Это и позволило нам прийти к соглашению. Теперь нам не придется заботиться, о безопасности наших, границ. Англия берет на себя защиту Ирана. Англичане проложат дороги, построят дома, а вдобавок еще и заплатят нам. Потому что понимают, в какой степени мировая культура в долгу перед Ираном.
— Вы верите, что Англия будет защищать нас во имя нашей культуры? — недоверчиво спросил сидевший рядом с дядей его сын Бахрам хан Ширваншир. Может быть, они делают все это во имя нашей нефти?
— Для светоча мира и культура, и нефть равно достойны защиты, холодно отвечал дядя. — Но мы не можем быть солдатами!
Тут в разговор вступил я.
— Почему не можем? Я, например, сражался за свой народ и уверен, что и впредь буду сражаться за него.
Асад-ас-Салтане бросил на меня недовольный взгляд. Его высочество поставил чашку и важно проговорил:
— А я не знал, что среди Ширванширов есть и солдаты.
— Али хан, ваше высочество, был не солдатом, а офицером.
— Это не имеет значения, Асад-ас-Салтане, — сказал шахзаде и насмешливо добавил: — Ишь ты, офицер!
Я прикусил язык. Проклятье, совершенно вылетело из памяти, что в глазах правоверного иранца быть солдатом — дело недостойное.
На моей стороне был, кажется, только Бахрам хан. И то, наверное, только потому, что еще молод. Сидевший рядом с шахзаде господин Мушир-ад-Довле, занимающий высокий правительственный пост, втолковывал моему двоюродному брату, что Иран находится под защитой Аллаха и для того, чтобы блистать, ему не нужны мечи. В прошлом сыны Ирана уже доказали свою отвагу.