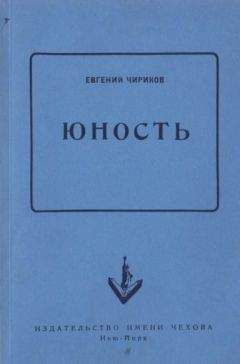— С собой не о чем разговаривать. Гуляйте!
— С собой дозволено. Покажите инструкцию: там нет такого параграфа.
— Гуляйте в молчании, а то уведу в камеру…
Поет скворчик на Зоином окне, поет умильно и радостно. Не даром он пел с самого утра. Спасибо, скворчик! Грустно перезванивают великопостные колокола, а в сердце уже пасхальный трезвон под «барыню»… Хожу, а ноги подплясывают, и всё хочется громко, на всю тюрьму, запеть или закричать в город:
— Люди! Я видел Зою!
Как она похудела! Какие у нее большие глаза и синие, как это небо… Как радостно они засмеялись и схватили мою душу! Не могу припомнить, как она была одета. Только сейчас встретил, а не могу представить всей ее фигуры. Стоят в памяти только большие синие глаза, светлая улыбка и какой-то испуг; потом помнятся качнувшиеся косы. Как я не догадался поцеловать руку или косу: рука была в моей, вот в этой самой руке, а коса ударила меня по щеке, золотая коса! И теперь еще кажется, что коса щекочет щеку… «Эх, дурак ты, братец!».
— А вы, господин, не ругайтесь!..
— Да я — себя.
— А кто вас знает, кого вы… Гуляйте в молчании!
Значит, не выпустили, а возили либо на допрос, либо на свидание. Скорее — на свидание: она стучала что-то про отца. Не приехал ли отец, этот странный человек, пригрозивший нашей любви губернатором и преосвященным. Беспокоит меня этот господин, которого я никогда не видал: не наболтал бы чего-нибудь, не напортил бы нам с Зоей… Надо нам поговорить и условиться, как быть, если отец что-нибудь затеет неподходящее к нашим планам: мы решили, как только кончится дело и состоится приговор, повенчаться в тюрьме и поехать вместе в ссылку, если ссылкой кончится. А если только высылка или надзор — мы изберем для жительства один город и там уже решим, когда повенчаться и нужно ли вообще венчаться. Я — против этой формальности принципиально, но Зоя не хочет огорчать родных и просит повенчаться. Пусть, для нее я готов на эту жертву…
Вон, около тюремной стены уже обтаяло и видна земля. Надо походить по этой мокрой земле. Как это приятно ступать по обнажившейся земле; мягко, скользко, остается след от резиновой калоши! Вон вьется веселый ручеек. Подошел, запрудил его ногой: скопилась мутная вода и побежала мимо. Не удержишь! Весна, тебя не удержишь! Любовь, тебя не запрешь в тюрьму!.. А голуби всё воркуют. Они рады, что мы с Зоей встретились. Где они? Ах, вон куда забрались: в нишу каменной стены. Для них нет неволи и им не надо венчаться, и никто их не отдаст под надзор полиции и не вышлет. Счастливые голуби! Если бы мы, люди, могли жить так же, как вы, голуби!..
— Пожалуйте домой! Прогулка кончилась.
Да, надо домой. Там ждет Зоя. Куда ее, голубку мою, возили? Что она расскажет? Почему-то волнует меня тревожное ожидание и страх, не случилось ли чего-нибудь неприятного для нас обоих.
Словно чувствовало сердце недоброе. Войдя в камеру и осмотревшись, увидал на постели, за подушкой, записку и сейчас же понял, что ее подкинул от Зои мой приятель Флегонт.
«Приехал отец, хлопочет на поруки. Как скажешь, так и сделаю. Если хочешь, не выйду. Тяжело оставить тебя одного, словно теряешь навсегда. Милый, родной мой! Как же быть? Надо скорей повенчаться. Если отец будет мешать, не выйду из камеры. Верь и не грусти! Что бы ни было, никто и ничто нас не разлучит. Ночью буду ждать ответа, а лучше бы написал и передал Флегонту. Он — надежный. Трудно говорить через стену, много пропускаю, путаю. Весна, родной! Как хорошо на улицах! Ах, когда же мы с тобой… Твоя невеста».
Несколько раз прочитал письмо и стал быстро ходить по камере. Как же быть? Что предпринять? Висела над нами какая-то смутно сознаваемая беда; пугала близкая возможность разлуки; на кого-то я страшно сердился, а на кого — не мог сказать определенно. Кто-то покушался отнять у меня мое счастье, а права на это не имел: Зоя — моя, только моя, больше моя, чем отца и матери. Никто не должен вмешиваться в нашу судьбу. Не позволю. Ходил всё быстрее и думал всё решительнее. Потом взял лист бумаги и решительным почерком, крупным и размашистым, сопровождая письмо чернильными непочтительными кляксами, написал в жандармское управление: «Политического арестанта, Геннадия Тарханова, прошение. Давно уже состоя женихом политической арестантки такой-то, имею честь просить о разрешении повенчаться с ней в тюремной церкви в самом непродолжительном времени. Геннадий Тарханов, политический арестант из камеры № 5». Во время вечерней поверки передал это прошение помощнику смотрителя и сердито сказал:
— Потрудитесь немедленно отослать в жандармское управление!
— Новое показание по делу?
— Совершенно новое. Вас оно не касается.
— Я не только могу, но я обязан читать всё, что пишут в тюрьме политические.
Читает и чуть заметно ухмыляется, негодяй.
— Смешно?
— Имейте в виду, что теперь только вторая неделя Великого поста и потому…
— Это не ваше дело.
— Едва ли…
Покачал головой и пошел, с улыбочкой на губах, из камеры. Не могу передать той злобы и ярости, которые я испытывал, глядя в толстый затылок уходящего помощника смотрителя. Если бы в моих руках был какой-нибудь тяжелый предмет, я пустил бы им в этот жирный затылок. Но у меня в руках ничего не было и я только до крови закусил нижнюю губу и сквозь зубы прошептал:
— Ммеррзавец!
И опять стал бегать по камере, пока не закружилась голова и не помутилось в глазах. А когда это случилось, бросился в постель и лежал без движения до тех пор, пока не подали зажженной лампы и кипятку для чая.
Медленно пил чай и обдумывал свое положение. Что, если нам не разрешат повенчаться в тюрьме? Отец возьмет Зою на поруки и, конечно, постарается разлучить нас навсегда: увезет куда-нибудь, за границу например. Там она встретит кого-нибудь, полюбит и… Нет, она любит меня бесповоротно! Хорошо, если Зою куда-нибудь вышлют, а то ведь может всё дело кончиться для нее высылкой на родину и отдачей на поруки родителям. Это практикуется. Этого я боюсь больше всего. Попадет в западню моя Зоя и трудно будет добыть мою полоненную Царевну. Отец у ней похож на Кащея Бессмертного — это видно из его грубого письма ко мне. Скверно, Геннадий Николаевич!
И впервые еще я почувствовал ненависть к стене, которая нас давно разделяла.
— Проклятая!.. Ничем не прошибешь…
Постучал. Стена ответила. Прилег на постель, прильнул к холодному камню и начал выстукивать свое решение:
— Надо немедленно обвенчаться. Поняла?
— Тук тук!
— Немедля подай прошение в жандармское. Поняла?
— Тук, тук!
— Когда повенчаемся, выходи на волю, только не забудь меня!
— Н-е з-а-б-у-д-у, н-и-к-о-г-д-а.
Потом я сообщил Зое, что моя мать тоже хлопочет о поруках и ищет денег, но что я не выйду, если Зоя останется еще в тюрьме. На это стена простучала мне:
— М-и-л-ы-й, л-ю-б-л-ю, ц-е-л-у-ю.
Итак, всё сделано. Теперь нечего бояться. Раскрыл фортку и стал слушать и смотреть в звездное небо. Была тихая ночь, лунная, печальная какая-то. На тюремной церкви ярко сиял под лунным светом крест. Синий купол слился с фоном неба и казалось, что крест висел в воздухе, как вещее чудо или знамение. Я долго смотрел на горящий синими огнями крест и вдруг мне захотелось молиться. Я встал на стол, опустился на колени и стал шептать:
— Господи, спаси нас!.. Ты можешь. Ты видишь, как мы страдаем…
Успокоенный, я собирался спать и по обыкновению, постучал, чтобы проститься с Зоей. Но ответа не было. Я прильнул к стене ухом и услыхал что-то, похожее на тихий плач… Она плачет, плачет. О чем, голубка? Тревожно постучал в стену и прислушался; встала, с шумом отодвинула табуретку и подошла к стене.
— Ты плачешь? О чем?
— Я не могу выйти на свободу без тебя. Обвенчаемся, и я опять вернусь в мою камеру.
— Прекратите разговоры!
— Я не говорю.
— Значит, стена стучит? сама? Надо вас развести… вот что.
— Не буду, не буду…
Всем хочется нас развести. Проклятые!..
XXX
…Опять раскрытая дверь. Опять увезли Зою на допрос. Как ее мучают!.. А может-быть на свидание с отцом. Не хочется гулять: дрожит в груди тревога. Надо скорее «домой»…
— Довольно! Больше не хочу гулять.
— Пяти минут не прошло еще.
— Всё равно, веди меня в камеру. Не хочу.
— Как угодно. Мне всё равно.
Не вернулась: камера по-прежнему раскрыта. Дрожит в груди тревога. Хожу, приостанавливаюсь и жду, когда хлопнет соседняя дверь, заскрипит засов и забренчат ключи: это случится, когда Зоя вернется в камеру. Радостно вздрагивает сердце при каждом далеком стуке дверью, при каждом шорохе в коридоре. Нет, не то… А может быть она уже в камере? Может быть, я как-нибудь пропустил ее возвращение. Подхожу к стене, прикладываю ухо, напрягаю слух и внимание. Нет, не слышно… Камера — пуста. Не верится. Стучу в стену условным призывом. Нет, не отвечает… Господи, что же это значит? Снова крадусь к своей двери и, затаив дыхание, прислушиваюсь к звукам и шумам в коридорах. Нет, нет! Смотрю на часы, успокаиваю себя: прошло не больше часа, на допросе иногда держат по два часа… Что им от тебя нужно? Что они мучают мою бедную голубку! Хожу, как зверь в клетке, тыкаясь в углы, а тревога всё растет и растет. Смотрю на молчаливую стену: холодная, мертвая, угрюмо-молчащая стена. Она знает, но не скажет. Никто не скажет, не напрасно ли я жду желанного звона ключей!