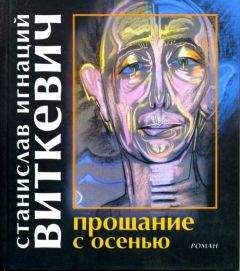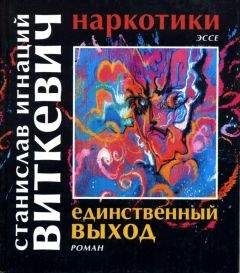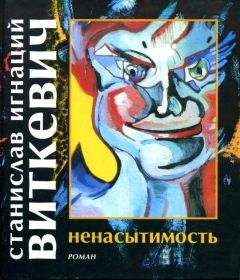«Что в данный момент может об этом думать Бог, общий для этих двух взаимонепроницаемых миров? На эту проблему никто, кроме меня, не обратил внимания», — подумал Атаназий. Он сочувственно погружался в мучительное раздвоение этой не существующей для него, уходящей за горизонт серых судеб человеческой массы. Он выполнил свою социальную миссию и теперь может отойти от пожирающего самого себя, без чьей бы то ни было помощи, человечества. В хмурых лучах этой мысли ему показались жалкими и Рамзес II, и Наполеон, и религия, и весь индивидуализм в жизни и искусстве. Муравейник грядущего человечества, множества автоматов, скрывающих где-то в своих недрах остатки великолепного (да на самом ли деле великолепного в этих условиях?) прошлого, вырастал перед ним до гигантских размеров. Это было комедией, мимолетным всполохом могущества, употребленного в противных им, перерастающих его целях. Общество — то самое, грядущее, серое и скучное — выросло в его сознании в единственную реальную ценность среди космического жара солнц в бесконечном пространстве. Эта мысль погасила для него все цвета прекрасной, казалось бы, эпохи: от пещерных людей до французской революции. Метания этой банды уродов-индивидуалистов на фоне страдающей кучи скотов, пока еще неспособных к организации, показались ему вершиной комедиантской суетности. «А все-таки другие пережили мир иначе. Даже Наполеон, несмотря на свой компромисс... Только кого это волнует? Что же тогда получается: одно мгновение жизни Ендрыка Логойского после пяти дециграммов „коко“ ценнее, чем вся жизнь всего человечества?» Противоречивость и несоразмерность этих миров при явном преобладании непременной объективной победы постоянно растущей организованной массы над дергающимся в своей ограниченности, будто в смирительной рубахе, индивидом становились просто страшными. И все-таки по эту сторону был настоящий трагизм в отношении хоть пока и неосознаваемого, но неизбежного поражения. «Уже через пятьсот лет, может, никого в таком стиле и не будет, а счастливые автоматы даже не будут понимать книги прежних времен, и содержащиеся в них слова станут для них значками без значения, не скоординированными никакой непосредственно понимаемой идеей — возможно, они будут смотреть на нас так, как сегодня мы смотрим на тотемистов Австралии». Вот какими мыслями оправдывал перед самим собой Атаназий свое собственное ничтожество.
Геля триумфально шествовала через костел. Святая прозрачная маска, наложенная на ее лицо, лицо злого утомленного демона, делала ее видением немыслимой красоты. «И все-таки этот последний выстрел был хорош. Если бы не дернулся этот осел (она подумала о своем красном браунинге, как о каком-то живом, близком ей и неблагодарном создании), то ничего такого не было бы: ни этого костела, ни Выпштыка, ни крещения, ни этого Атаназия, поглупевшего от обладания моим телом, — ничего». Впервые (то, прежнее откровение, в день принятия крещения, было ничем по сравнению с этим) она физически прониклась, казалось бы, непостижимой идеей небытия. И благодарность к тому маленькому красному непослушному созданьицу, что лежало в ящике ее ночного столика, заполнила ее глаза горячей волной слез, текущих откуда-то из-под самого сердца. Жизнь возвращалась, та самая, любимая, страшная, отвратительная, но такая близкая. «Я стану его любовницей, стану...» — подумала она с незнакомым ей до сих пор чувством об Атаназии и испугалась первого мысленно содеянного греха в этом святом месте. «Нет, нет, никогда», — что-то упорно лгало в ней. И одновременно кто-то чужой бесстыдно, цинично смеялся в ней. «Сатана, — подумалось ей. — Не совсем, видать, изгнал его из меня бедный отец Иероним». Препудрех абсолютно не существовал для нее. Он все еще стоял у колонны, прекрасный, как настоящий принц с персидской миниатюры, не в состоянии сойти с места, когда она проходила мимо него, как демон разрушения, в короне святости чуждой всему ее естеству веры. Воистину, порция переживаний оказалась для нее слишком большой. «Как я выдержу до вечера, а потом, как я выдержу эту ночь? Наверняка не выживу. Напиться, что ли, как свинья, не думать, ни в коем случае не чувствовать». А завтрашний день вставал перед его подавленным мысленным взором еще более страшным, чем та адская ночь, которой он так хотел и которой боялся до безумия. Как поднять этот ее заумный умище этим маленьким умишком рядового аристократического фанфарона? Как дать ей эротически чистое счастье в условиях всех тех сложностей, которые могли бы лишить сил и самого мощного быка? Геля внезапно очнулась, когда оказалась перед Атаназием, стоявшим в первом ряду шпалеры, между какими-то страшными воротилами еврейского капитала, который вот теперь, благодаря крещению Берца, должен был найти зацепку на трансмиссии в жутких махинациях других средоточий того же капитала в руках каких-нибудь влиятельных гоев с Запада. Все равно — пусть дело крутится, а может когда-нибудь... А может, это иллюзия? Какие-то серые оливы на каменистых нагорьях Палестины и тихая Висла среди серебряных ив, обросшая муравейниками еврейской нищеты, и Ротшильды, Мендельсоны и Бляйхрёдеры (впрочем, может, Бляйхрёдер вовсе и не еврей — кто может знать наверняка, один из тех, кого это совершенно не касается и который ничего в этом не понимает) — все вместе вплетенное во всемирную концентрацию промышленности и идущую бок о бок с ней организацию масс, и образ еврейского государства в мозгах напуганных гоев, масоны, дансинги, и отравляющие газы, и Восток, тот настоящий, на самом деле загадочный, отделенный от остального мира уже въедающимся в него тоненьким слоем русского коммунизма, запускающий щупальца и сюда, и туда, на Запад — все это пронеслось в усталой голове Атаназия, когда он взглядом зацепился за «ту», за тот цветок женской жестокости, выросший здесь, на этом болоте. «Эти бестии выродятся не так быстро, как мы. Может, где-то в серой каше общества-муравейника мы и сравняемся, но сейчас у них преимущество здоровой силы. Разумеется, именно поэтому извращение организуется так лихорадочно, подавляя обычную порнографию в искусстве», — сумел подумать Атаназий, прежде чем упал в лазурную, горящую хоть и неземным, но таким чувственным огнем бездну этих единственных в мире очей. «И что я от нее защищаюсь — ведь моя жизнь и так ничего не стоит. О, почему же я не художник в этот момент — я бы все оправдал парой тонов, какой-нибудь жалкой мазней, и был бы счастлив». Гелю сотрясла дрожь стыда, и ее душа улетела вместе со звуками органа, биясь о границы мироздания в диком желании бесконечности. «Нет, — подумала она наивно. — Та жизнь, что даровал мне ТОТ, кто на Небе, в которого я верую, та жизнь должна быть возвышенной и чистой. Я дарю его этой бедной Зосе, а из Азалина сделаю человека». Бедный Препудрех умер бы от чисто интеллектуального страха, если бы смог сейчас прочитать ее мысли. Он приближался неуверенным шагом, направляемый заново рождающейся ревностью.
— Почему Зося не пришла? — спросила Геля. — Я так люблю ее. Я так бы хотела, чтобы мы по-настоящему подружились.
— Я тоже, я ничего... я совсем о другом, это невозможно выразить, — бормотал Атаназий.
— Знаю, вам бы хотелось, чтобы мы обе... Ах, что это я, здесь ведь святое место. Жду вас на завтрак в полвторого.
Этот разговор в своей обыденности был более странным, чем все то, что предшествовало этому. Обычный день, тот, которым покрывается пропасть тайны бытия, как трясина коварным покровом водорослей, вдруг приобрел новое измерение странности, но не метафизической, а чисто житейской. «Это та странность, которой живут обычные люди в исключительные моменты, без каких бы то ни было религиозных экзальтации, та, которую ощущает офицер, играющий на балалайке какой-нибудь девчонке (почему именно такое сочетание?), банковский служащий на танцплощадке, подозрительная (всегда одно и то же) замужняя женщина в какой-то провонявшей плохим табаком и дешевым одеколоном квартирке бедного пижона — та третьеразрядная странность, которая присутствует во всех романах, за исключением „Нетоты“ Мицинского. Нет — пусть происходят даже страшные вещи, но — в измерениях истинной метафизики. Значит так, почитать Гуссерля или Рассела, а потом насиловать кого попало, ибо сам половой акт — нечто в высшей степени странное и во всех религиях, за исключением самых первобытных, он связан с обрядами. Что еще остается? Стать священником, или как?»
— Да, наверняка будем. Зося причащалась утром, устала, потому и не пришла. Так, стало быть, сегодня в шесть?
— Да, опять встретимся здесь.
Разговор прервался. Они оба чувствовали, что наверняка знают одно и то же, только они двое, здесь и во всем мире, уже вне всякой обыденности и даже странности. Начиналась новая большая любовь, выросшая на несправедливости в отношении других и мучениях тех других — в этом была вся ее цена и ценность. Подсознательный психический садизм Атаназия в соединении с физическим мазохизмом придавал этой комбинации сатанинское очарование. В ней была противоположность. Это удовлетворяло амбиции обоих. Их разделила смешанная толпа гоев и семитов, они вышли порознь: он один, она под руку с женихом.