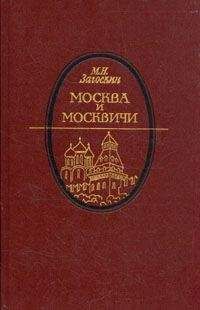Московский Английский клуб открыт в 1802 году на Петровке, в бывшем доме князя Гагарина; в этом доме помещается теперь новая Екатерининская больница. Я был в то время одним из самых ревностных членов клуба, но в 1812 году, вступая снова в службу, не возобновил моего билета и с тех пор ни разу не был в клубе. Я знал только по рассказам, что он с Петровки перешел на Дмитровку, в дом Муравьева, а потом на Тверскую, в великолепные палаты графа Разумовского. Старики бывают иногда так же причудливы, как прекрасные женщины, и избалованы, как дети. С лишком тридцать лет не думая я о клубе, и вдруг недели две тому назад пришла мне смертная охота возобновить мой билет и снова начать ездить в клуб. В то время как я придумывал, как бы поскорее приступить к этому важному делу, заехал ко мне Захар Иванович Илецкий, старый холостяк, который лет сорок тому назад был блестящим молодым человеком, царем паркета, украшением московских балов, любимцем всех женщин и предметом зависти всех мужчин. Предание гласит, что он точно был некогда московским ловеласом и что по милости его бесчисленное множество влюбленных девиц сошло с ума, зачахло и умерло от любви, отчаяния, чахотки, воспаления в мозгу и разных других телесных и душевных болезней. Разумеется, Захар Иванович, живя одними воспоминаниями, не мог любить настоящего времени; да и как любить его?… В старину Захар Иванович был молод и здоров, в старину все веселились, то есть он веселился, а теперь все скучают, то есть ему скучно. Бывало, ему недостает времени на удовольствия, а теперь он не знает, куда с ним деваться. На балах он лишняя мебель, на званые обеды доктор запрещает ездить, все молодые дамы смотрят на него так смело, все мужья с ним так ласковы!.. Тоска, да и только!.. Захар Иванович Илецкий попал в члены Английского клуба в тот самый год, когда перестал танцевать и получил отказ от третьей невесты, за которую сватался; ему было тогда ровно пятьдесят пять лет. Теперь он решительно покинул свет и бывает в одном только клубе.
— Я заехал к тебе на минутку, — сказал Илецкий. — Скоро семь часов, а мне надобно непременно побывать в Английском клубе, чтоб записать гостем одного из моих приятелей.
— Ты в чем приехал? — спросил я.
— В моей каретке. На дворе прескверная погода — дождь так и льет.
— Захвати и меня с собою. Я хочу сегодня быть в клубе.
— Нет, шутишь?…
— Право.
— Что это тебе вздумалось? Уж, кажется, лет двадцать как ты его покинул?
— Нет, мой друг, с лишком тридцать…
— И ты хочешь возобновить свой билет?
— Хочу, только не знаю, как это делается…
— Очень просто: ты заплатишь триста рублей штрафу за твою долговременную отлучку из клуба и станешь по-прежнему в него ездить.
— А что, мой друг, встречу ли я там кого-нибудь из прежних моих сотоварищей?… По крайней мере, я многих давно уже потерял из виду. Я думаю, почти все перемерли.
— Почему знать? Может быть, и отыщутся. Ведь у нас есть старички, которые к себе никого не принимают, а сами ездят только в клуб, так не диво, что ты многих из них потерял из виду… Однако ж время, мой друг, — поедем!
Мы отправились.
— Ты знаешь, кому принадлежал прежде дом, который нанимает Английский клуб? — спросил меня Илецкий, когда мы поворотили с бульвара на Тверскую.
— Его, кажется, построил граф Разумовский.
— Нет, мой друг! Главный корпус, в котором, собственно, помещается Английский клуб, существовал гораздо прежде, — это был дом знаменитого русского писателя Хераскова. Граф Разумовский пристроил к нему только деревянные флигели, которые ты, верно, до сих пор принимал за каменные.
— Да, это правда!.. Я даже никогда не подозревал, что эти двухэтажные огромные флигели, придающие такой величественный вид всему зданию…
— Построены из деревянных брусьев?… Конечно, теперь это странно, но в Москве до двенадцатого года много было огромных деревянных домов, которые ни в чем не уступали каменным палатам. Теперь осталось в этом роде два образчика: дом графа Шереметева в Останкине и дом графа Разумовского на Гороховом поле. Когда подумаешь, как живали в старину наши московские бояре!.. Хоть, например, этот дом графа Разумовского на Гороховом поле… Кому придет нынче в голову построить в средине города не дом, а дворец, не из кирпича, а из корабельного мачтового леса, что, конечно, стоит вдвое дороже, и развести позади этого дома на двадцати пяти десятинах сад, в котором вы могли прокатиться на шлюпке по светлому озеру, купаться в реке Яузе и даже подумать, что вы за сто верст от Москвы. Все это в наше время кажется сказкою. У нас уж нет теперь десяти или пятнадцати барских домов, которые наперерыв угощали всю Москву, зато, — продолжал с насмешливой улыбкою Илецкий, — у нас есть Клубы, в которых мы сами себя угощаем. Там, бывало, одевайся, тянись, представляйся хозяину, а здесь то ли дело: накинул на себя какой-то шушун, который французы называют пальто, закурил сигарку, да и знать никого не хочешь.
— Что ж это, Захар Иваныч, ты это говоришь в насмешку, что ль?…
— В насмешку?… Что ты, Богдан Ильич! Где нам, старым парикам, насмехаться над этим молодым поколением, остриженным а-ля мужик, лишь только бы над нами-то не смеялись…
— Так что ж, по-твоему…
— Известное дело, все новое лучше старого, братец.
— А вот и неправда, — сказал я шутя, — и старое вино лучше нового, и старый друг.
— Ну, уж о друзьях-то не говори! В наш просвещенный и положительный век смело можно повторить слова одного древнего мудреца: «Друзья! На свете нет друзей!» Но вот мы и приехали.
Нам помог выйти из каретки рослый и дюжий швейцар. Видный унтер-офицер, обвешанный медалями, отворил двери стеклянной перегородки, которая отделяла сени от великолепной двойной лестницы. Когда мы взошли по ней в прихожую, нас встретил другой швейцар; мы отдали ему шинели, шляпы и палки и вошли в первую комнату, по стенам которой висели разные объявления от старшин клуба, отчет за протекший месяц и бесконечный список кандидатов, из которых последнему надобно будет прожить лет сто, чтоб дождаться своей очереди.
— Вот комната, — сказал Илецкий, — которую можно было бы назвать лобным местом Английского клуба, потому что в ней не только вывешиваются отчеты и разные объявления от старшин, но происходит также и моральная казнь недостойных членов клуба, исключаемых за разные нарушения устава и неприличные поступки. Их имена, с подробным описанием преступления, вывешиваются на черной доске. Конечно, эта политическая смерть ограничивается одними пределами Английского клуба и не лишает виновного никаких гражданских прав, но не менее того попасть на черную доску вовсе не забавно. Разумеется, хорошему человеку бояться нечего: он ведет себя хорошо не из страха наказания; но «В семье не без урода», гласит русская пословица, а шестьсот человек — семейка порядочная. Следовательно, можно сказать утвердительно, что по милости этого спасительного страха благочиние, порядок и приличие весьма редко нарушаются в клубе. Теперь завернем на минутку в эти две комнаты. Тут, — продолжал Илецкий, — играют в лото. Посмотри, в каком здесь все порядке, с какой роскошью устроены эти машины, посредством которых выходят номера, как все до последней мелочи щеголевато, удобно и красиво!
— Да, конечно! Только это для меня совершенный сюрприз. Я никак не ожидал, чтоб лото, эта старинная, давно забытая игра…
— Ну да, вошла опять в моду точно так же, как старинная мебель а-ля помпадур, резьба на дереве, готическая архитектура, китайские куклы, наклейные столы и множество других вещей, на которые разорялись наши предки и которые несколько лет тому назад казались нам самыми вычурными и смешными образцами безвкусия. Поверь, мой друг, ничто не ново под луною. Мы думаем, по нашей гордости, что все идет вперед, а в самом-то деле мы лишь только кружимся на одном месте.
— Что ты, Захар Иваныч! Да неужели художества и все изящные искусства нейдут вперед?
— А дошли ли они до той степени совершенства, на которой находились у древних греков и римлян?
— Но, по крайней мере, ты согласишься, что науки…
— А почему знать, мой друг, может быть, все наши ученые не что иное, как школьники в сравнении с учеными, которые жили до потопа?… Да что толковать об этом! Мы еще успеем наговориться. Прежде всего надобно тебя провести по всем комнатам клуба.
Я пошел за Илецким.
— Вот, — сказал он, — эта огромная гостиная, в которой играют теперь на шести столах, известна под названием детской.
— Детской? — повторил я. — Уж не потому ли, что здесь очень шумят?
В самом деле, в эту минуту за одним карточным столом поднялся ужасный крик.
— Ого, — сказал я, — да тут никак ссорятся?
— О нет, — прервал Илецкий, — здесь никогда не ссорятся.
— Да разве ты не слышишь, как эти четыре господина кричат?