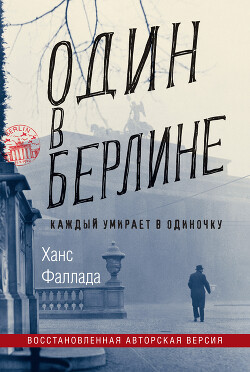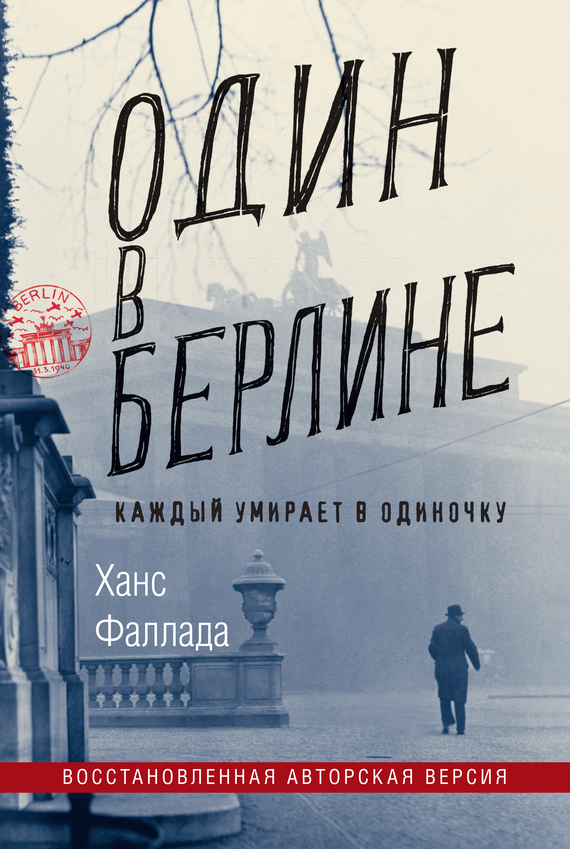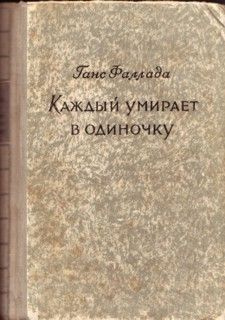Анна кивает, шепотом спрашивает:
— Когда ты ее отнесешь?
Квангель смотрит на нее.
— Завтра утром.
— Можно мне пойти с тобой? Только один разок! — просит она.
Он качает головой:
— Нет. Именно в первый раз никак нельзя. Я должен посмотреть, как все пройдет.
— И все-таки! — настаивает она. — Это моя открытка! Открытка матери!
— Ладно! — решает он. — Пойдешь со мной. Но только до того дома. Внутрь я войду один.
— Согласна.
Затем открытку осторожно суют в книгу, убирают письменные принадлежности, а перчатки отправляются в карман рабочей куртки Квангеля.
За ужином они почти не разговаривают. Но совсем не замечают этого, даже Анна. Оба устали, словно тяжко трудились или совершили долгое путешествие.
Вставая из-за стола, Отто говорит:
— Пожалуй, лягу прямо сейчас.
— Я только приберу на кухне. И тоже приду. Господи, как же я устала, а ведь мы ничего не делали!
Он смотрит на нее с легкой улыбкой и уходит в спальню, начинает раздеваться.
Однако потом, лежа в потемках, оба не могут заснуть. Ворочаются, прислушиваются к дыханию друг друга и в конце концов заводят разговор. В темноте разговаривать легче.
— Как по-твоему, — говорит Анна, — что будет с нашими открытками?
— Сперва все перепугаются, увидев их и прочитав первые слова. Нынче ведь все боятся.
— Да, — говорит она. — Все…
Но для них самих, для Квангелей, она делает исключение. Почти все боятся, думает она. Все, но не мы.
— Тот, кто найдет, — повторяет он сотни раз обдуманное, — испугается, вдруг кто-то видел их на лестнице. Быстро спрячет открытку и уйдет. Или опять положит ее на пол и скроется, но потом придет другой…
— Так и будет. — Анна воочию видит перед собой лестничную клетку, обыкновенную берлинскую лестничную клетку, плохо освещенную, н-да, каждый, кто держит в руке такую открытку, вдруг почувствует себя преступником. Ведь на самом деле каждый думает так же, как написавший открытку, а подобные мысли недопустимы, потому что грозят смертью…
— Некоторые, — продолжает Квангель, — сразу же отдадут открытку блокварту [19] или полиции: лишь бы поскорее сбыть ее с рук! Но и это ничего не значит: в партийной ли инстанции, нет ли, политфункционер или полицейский — все они прочитают открытку, она на них подействует. И если хотя бы узнают из нее, что сопротивление еще существует, что не все идут за этим фюрером…
— Да, — говорит она. — Не все. Мы не идем.
— И таких станет больше, Анна. Благодаря нам станет больше. Быть может, мы наведем других на мысль писать такие же открытки, как я. В итоге десятки, сотни людей возьмутся за перо и будут писать, как я. Мы наводним Берлин этими открытками, затормозим работу машины, свергнем фюрера, окончим войну…
Он умолкает, ошеломленный собственными словами, этими мечтаниями, которые в такую поздноту обуревают его бесстрастную душу.
Но Анна Квангель, взволнованная видéнием, говорит:
— А первыми будем мы! Хотя, кроме нас, никто об этом не узнает.
Внезапно он совершенно будничным тоном произносит:
— Возможно, уже многие думают так, как мы, погибли-то уже, поди, тысячи мужчин. Возможно, уже есть такие, что пишут открытки. Но это не важно, Анна! Что нам за дело? Главное — мы пишем!
— Верно, — соглашается она.
А он вновь увлечен перспективами начатого предприятия:
— Мы встряхнем и полицию, и гестапо, и СС, и штурмовиков. Всюду пойдут разговоры о таинственном авторе открыток, они будут устраивать облавы, подозревать, выслеживать, проводить обыски — тщетно! Мы будем писать, снова и снова!
— Глядишь, и фюреру эти открытки покажут, — подхватывает Анна, — он сам их прочтет, мы ведь его обвиняем! Бесноваться будет! Он же, говорят, всегда беснуется, чуть что не по его. Прикажет нас найти, а они нас не найдут! Придется ему и дальше читать наши обвинения!
Оба умолкают, ослепленные такой перспективой. Кем они были вот только что? Неведомыми людишками, частичками огромной, темной толпы. А теперь оба совсем одни, отрезанные, отмежеванные от других, ни на кого не похожие. Вокруг них лютый холод одиночества.
Квангель видит себя в цеху, среди обычной суматошной гонки: подгоняющий и подгоняемый, он внимательно поворачивает голову от станка к станку. Для них он так и останется старым дураком Квангелем, одержимым работой да своей окаянной скаредностью. Но в голове у него мысли, каких ни у кого из них нет. Каждый из них помер бы со страху от таких мыслей. А у него, у старого дурака Квангеля, они есть. Он всех их обдурит.
Анна Квангель думает сейчас о том, как завтра они отправятся в путь с первой открыткой. Чуть злится на себя, слегка недовольна, что не настояла войти в дом вместе с Квангелем. Прикидывает, не попросить ли его еще разок. Пожалуй. Вообще-то Отто Квангеля просьбами не возьмешь. Но, может, нынешним вечером, когда он так непривычно весел? Может, прямо сейчас?
Но раздумывает она слишком долго. И когда решается, замечает, что Квангель уже спит. Ладно, тогда и ей надо спать, может, завтра получится. Улучит минутку и обязательно спросит.
И Анна тоже засыпает.
Глава 19
Первая открытка на месте
Завести разговор она осмеливается только на улице, так молчалив Отто этим утром.
— Куда ты хочешь отнести открытку, Отто?
Он недовольно отвечает:
— Не говори об этом сейчас. Не здесь, не на улице. — Но потом все же нехотя добавляет: — Я выбрал дом на Грайфсвальдерштрассе.
— Нет, — решительно возражает она. — Не надо, Отто. Ты сделаешь ошибку.
— Идем! — сердито бросает он, потому что она остановилась. — Я же сказал, не здесь, не на улице!
Он идет дальше, она следом, упорно настаивая на своем праве иметь собственное мнение:
— Не так близко от нашей квартиры. Если эта штука попадет им в руки, они сразу возьмут под наблюдение наш район. Давай пойдем на Алекс [20]…
Он призадумывается. Пожалуй, она права, нет, даже наверняка права. Ничего нельзя упускать… И все же внезапное изменение планов ему не по душе. Если они теперь пойдут на Алекс, времени останется в обрез, а ему никак нельзя опоздать на работу. Да и подходящего дома на Алексе он не знает. Домов там, конечно, много, но подходящий нужно найти загодя, а искать лучше в одиночку, без жены, она будет только мешать.
Немного погодя, совершенно неожиданно, он решается:
— Ладно. Ты права, Анна. Идем на Алекс.
Она искоса взглядывает на него, с благодарностью. Какое счастье, что он внял ее совету. А раз уж он доставил ей такую радость, не стоит просить его еще и о другом, о том, чтобы пойти в дом вместе с ним. Ладно, пусть идет один. Ждать будет страшновато, но, собственно, почему? Она ни секунды не сомневается, что Отто вернется. Он ведь такой уравновешенный, хладнокровный, не даст застать себя врасплох. Даже у них в лапах не выдаст себя, вырвется на свободу.
Пока Анна с такими вот мыслями шагает обок молчаливого мужа, они уже выходят с Грайфсвальдер на Кёнигштрассе. Она так погрузилась в размышления, что не заметила, как настороженно взгляд Отто Квангеля скользил по домам. Внезапно остановившись — до Александерплац еще довольно далеко, — он говорит:
— Ты пока посмотри на витрины, я скоро вернусь.
И он пересекает мостовую, направляясь к большому светлому конторскому зданию.
Сердце у Анны колотится все чаще. Она хочет окликнуть его: «Нет, нет, мы же договорились — на Алексе! Побудем еще немного вместе!» И: «Скажи мне хотя бы „до свидания”!» Но дверь подъезда уже закрылась за ним.
С тяжелым вздохом она оборачивается к витрине. Однако ничего там не видит. Прислоняется лбом к холодному стеклу, перед глазами искры. Сердце стучит так быстро, что она едва может дышать, вся кровь словно бросилась в голову.
Значит, я все-таки боюсь, думает она. Господи, он не должен заметить, что мне страшно! Иначе никогда больше меня с собой не возьмет. Да и боюсь я не по-настоящему… Я боюсь не за себя. Мне страшно за него. Вдруг он не вернется!