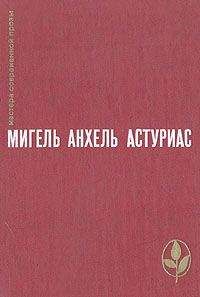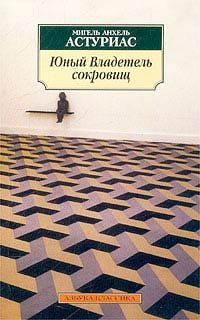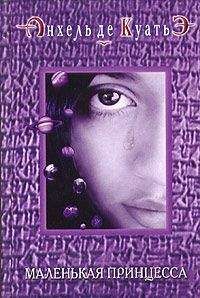— Знаешь, Томасита, чудится мне, что в этом деле скрыта большая тайна! Потому-то я и пришла. Я ведь редко тебя беспокою, уж извини меня, старуху. Так вот, говорю я, — можно здесь закурить? — говорю, что кажется мне это все каким-то чудом, делом рук колдунов и нечистой силы. В газетах об этом не пишется, но без этого не может обойтись… Дело темное…она глубоко затянулась дымом ту совой сигареты, непостижимое; так просто такие вещи не случаются… Что-то есть тут неведомое, чего не уловишь… Как дым табачный…
Слышалось учащенное дыхание и сопение Томаситы: склонившись над швейной машинкой, она вдевала нитку в иголку.
— Я не горюю, что слабо в газетах разбираюсь. Иной раз бывает, сложу с грехом пополам крупные буквы… Но я не горюю, Томасита, потому как ты небось и сама заметила, газеты все-то разжуют, все-то растребушат, все обсосут, как резинку жвачную, и, сказать по правде, всю тайну украдут у вещей, тайну, рожденную жизнью, а потом им дадут другую тайну, которую сами придумают: такое наплетут да накрутят, только людей добрых с толку собьют.
— Но, тетя Сабина, — возразила Томасита, справившись наконец с ниткой и подняв бледное лицо, лицо скорбящей юности. — Какая тут еще тайна? Никакой тайны, обычное дело…
— Тебе так кажется… а мне не так… Совсем необычная была эта буря, которая взяла да и смела то, что ей поперек дороги вставало. Вот откуда и все зло нынешнее: газета говорит, мол, дело обычное, а ей и верят… Нет, Томасита, есть много, очень много вещей, которые не так просты, как кажутся, и смысл свой имеют особенный. Ты еще мало прожила. Не знаешь ничего. Ну, да ладно, сложу-ка я свою бумажку — и в путь. Не хочу нагонять на тебя страхов в этой твоей лавке; тут и без того жутко.
— Вы, может, оставите мне газету, тетя? Мы ее не получаем, а там все так понятно рассказано.
— Ладно, оставлю; только смотри не потеряй. Ну а как вы живете? Я тебя и расспросить-то не успела. Как поживает мой братец и Гуадалупе, она ведь ревматизмой болеет? С тех самых пор, как мой брат женился на твоей матушке, она все, бедная, мучается. Даст бог, ты эту болезнь не переймешь, дочка, если только ноги не застудишь на сыром полу.
— Весь рынок на низине стоит, но у меня настил есть, с ним теплее.
— А сырость тут потому, что рынок на бывшем кладбище поставили. Вот ты сама сейчас и убедишься в моей правоте. Тебе-то видны только лавки, народ, толкучка: одни покупают, другие продают, эти входят, те уходят, а ведь внизу лежат мертвые, кости ихние — бог знает, сколько тысяч покойников. И никто меня не разуверит, что страшная буря, сгубившая чужеземцев, разразилась сама по себе, а не по воле кое-кого, и что не несла она в себе «его» силу. Кайшток[71], так его называла моя бабушка, хотя другие зовут его Сисимите[72].
— Сисимите — это дьявол…
— Это лесной дьявол, маленький, проказливый, работящий… — Старуха поднялась, собираясь уходить. Ох, придется мне с пустыми руками возвращаться, у тебя-то ведь не водится тепескуинтлей.
Томасита сложила газету, встала из-за швейной машины и проводила гостью до двери.
— Я не пойду дальше, тетя, ты сама поищи тепескуинтля, мне нельзя лавку оставить.
— Упаси бог, дочка, жулья-то нынче развелось… воров больше, чем крыс! Ты вот что мне скажи: сколько же унаследовали те люди с побережья в наших-то деньгах?..
— В газете сказано, тетя Сабина, если дают тридцать, тридцать наших песо за один доллар, значит, они будут иметь по тридцать шесть миллионов здешних песо…
— С ума можно сойти! Целая куча денег. Потому бог и насылает кары небесные. Вот и эта — тоже. А ведь газета не говорит, что страшная буря, которая все смела с лица земли, была карой господней. Они думают, будто «природа», как теперь называют, — не простая раба, исполнительница воли божьей. Нет, Томасита, нельзя иметь столько золота и уберечься от ужасных несчастий. А тем, наследникам, при всем ихнем богатстве я не завидую: от богатства при всем при том и бед не оберешься!
— Тетя Сабина, постойте, вы же не сказали, когда опять к нам зайдете; раньше вы к нам чаще заглядывали.
— Я зайду на день рождения твоего отца, если бог даст силы.
Томасита увидела, как старуха тихо поплелась прочь, поглядывая на людей и словно отмеривая каждый свой шаг, потом остановилась возле ларька, где торговала сушеной рыбой женщина, знавшая одного из наследников, некоего Кохубуля.
Под стрекотанье швейной машинки, под равномерный стук колеса кружились хороводом мысли Томаситы Хиль, кружились не вокруг газетной заметки, а вокруг того, что рассказывала торговка, женщина, пропахшая сушеной рыбой. Ох и тело же у нее — смуглое, пышное, а такими крепкими, белыми зубами только бы и молоть копал целый день! Что белее — копал[73] или ее зубы, зубы или копал? Жующая жвачку морская корова — полные груди и большой зад, и все большое и полное: шея, плечи, ляжки. Только ноги маленькие. Дробя, дробя, дробя зубами хрустящий копал, торговка рассказывала про супругов-иностранцев, — так, как поведал ей ее приятель. И права была все-таки тетушка, все это казалось сказкой, чистой сказкой…
— Появился как-то на плантациях странный человек, и не разумный и не юродивый; откликался, как пес, на имя Швей. Бродяга, похожий на христианина только с виду, продавал иголки, булавки, наперстки, всякую мелочь для шитья. Он предлагал свой товар. со смехом, который звучал и как смех, и как жалобный стон. Бродяга приглянулся одной сеньоре, супруге большого чиновника банановой компании. Она, кажется, влюбилась в парня за его сладкие речи. Приятный разговор да бархатный голос, — сказать-то многое можно, но надо еще и уметь сказать, уметь выразить.
Донья Лиленд развелась с мужем, который загребал сотни долларов, и вышла за бедняка, всего-навсего бродячего торговца, и даже не торговца, потому что такие торговцы» немалый капиталец вкладывают в свои товары, а Швей продавал только иголки и наперстки — всякую портняжную мелочь. Но с той поры Швей, назвавшийся Лестером Мидом, оставил свою мелочную торговлю и основал общее дело с мелкими хозяевами банановых участков, страдающими от притеснения, произвола и насилия, что чинила над ними Компания. А из маленькой, умевшей постоять за себя группки выросло общество во главе с североамериканцем, которому во всем помогала его жена. Трудно было с деньгами у местных банановых владельцев, и тогда направился янки Лестер Мид со супругою в Чикаго добиваться того, чтобы его там выслушали, чтобы перестала творить банановая компания свои темные дела, но ничего не смог добиться. Разочаровавшись в земляках, поехал он в Нью-Йорк велел своим адвокатам, этим самым двойняшкам, что теперь тут шныряют, составить завещание в пользу своей супруги, Лиленд Фостер. В случае же ее смерти весь капитал целиком доставался жителям побережья, тем, что образовали с ним вместе общество. Но сколько именно он завещал? Знала ли она, кто ее муж? Знали ли, что бедняга, за которого она вышла замуж, был одним из самых сильных акционеров той самой компании, с которой боролись жители побережья? Все открылось. Oн оказался вовсе не Лестером Мидом. Его настоящее имя было Лестер Стонер, миллионер. Ему опротивела жизнь миллионщика, он переоделся бедняком, да и в самом деле жил бедняком, бедняком, бедняком, и бродил по плантациям в поисках любви… — здесь торговка рыбой прервала свой рассказ и шесть раз подряд куснула зубами копал, — и, по счастью, нашел ее. Так всегда бывает кто презирает деньги, тот находит любовь… Ему посчастливилось; ведь женщина, которая в него влюбилась, полюбила только его: бросила дом, хорошие вещи, оставила мужа и вышла замуж за того, кто ничего не имел, кроме иголок и наперстков… — У торговки рыбой не только хрустнул копал на белых зубах, блестевших от слюны, хрустнули все ее пальцы, а черные зрачки метнулись вверх: две закатившиеся агатовые луны открыли светлую голубизну белков.
Сказка на этом не кончилась. Поведав правду донье Лиленд, он мог остаться с нею в Нью-Йорке и зажить там припеваючи, но никто из них обоих и не подумал про это. Они поспешили назад, на плантации, желая расширить свою мельницу для банановой муки, заложить фабрику для сушки бананов, развести всякие масличные культуры, но смерть всему помешала: там, где их нашла любовь, их нашла и смерть. Ураган покончил с ними. Две жизни, принесенные в жертву самой жизни. Всякий раз, повествуя об этом, плакала торговка «сухо-рыбой» (ей очень не нравилось, когда ее так называли, и она всегда огрызалась: «Это у вашей матери рыбка с ухо»), хозяйка лотка сушеной рыбой — так надо говорить, чтоб не разгневать женщину, потому что ярость ее вскипала морским прибоем в сильную бурю, а сцепившись с другой торговкой, она, бывало, шквалом рушила на голову обидчицы корзину рыбы.
— Ну вот, лиценциат, — сказала Сабина, вернувшись домой, — достала я тебе тепескуинтля. Побила себе ноги, но достала. Потому и задержалась. Не знаю я, каков он будет на вкус; наверное, не хуже броненосца. Ты мне скажи, как тебе приготовить, я его уже на огонь ставлю, а то к обеду не поспеет.