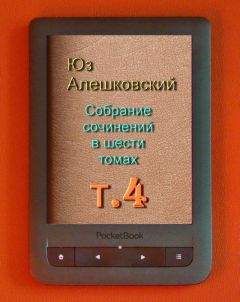Оно… вкусное, но нам и без этого хватало хлеба, водки и сала. От американских консервов, что в госпитале на дорогу в пайке выдавали, деваться под конец было некуда. Рыло у меня от харчей залоснилось. Чуть не погорел из-за него. Пришлось по-новой надышаться сахарной и табачной пыли…
И вышло у меня, у дурня, так, что захотел я бабе своей отомстить за того летчика. Захотел на глазах у нее, у паразитки, поиметь красоточку помоложе. Пусть поглядит и потрясется, как я в чулане темном, пусть поскрежещет, тварь, зубами и перекосится в сикись-накись от человеческой ревности… Теперь, говорю, я приведу человека. Сиди там смирно, пока управлюсь. Выйдешь если раньше времени – промеж глаз садану из пилотского нагана!
Семья была одна из Ленинграда. Выкормил я ее стюднем, бульоном и кулебякою. Подохли бы без меня как пить дать. Было время, когда за кольцо с бриллиантами люди масла не находили. Выкачали и из Сибири все соки.
Ленинградские дохли тучами, как мухи. Ну и взмолилась старушонка одна видная спасти ее внучку. На одного вас, говорит, молиться на том свете буду и берите все, что у меня есть, все – ваше. С трудом поднял я на ноги девчушку. Лет пятнадцать ей тогда было. С трудом. Кончалась в ней от блокады жизнь, и организм уже не желал принимать ничего такого съестного и питательного из человечины. Не желал. Словно чуял ее организм, что что-то тут не то, хотя девчушка с неделю лежала в забытьи. Ладно, думаю, ибо злой какой-то азарт разобрал меня тогда, не покинешь ты так просто, девочка, этот белый свет, я тебя выкормлю, гладкой станешь, грудь нальется, ляжки из желтых палок в теплые пышечки превратятся, с языка след смерти сымется, и волосы вновь отрастут. Выкормлю! И забил я ради той девчушки поросенка нашего, хоть и решил забивать его не раньше Седьмого ноября. Он рос хорошо. Перемалывал, бывало, все косточки, что от солдатиков оставались, и прочее.
Забил. Бульона понес девчушке. Хлеба в него накрошил. Укропчиком посыпал. И ты подумай, Давид, приняла она этот поросячий бульон. Приняла, словно уловила каким-то нюхом, что не туфтовый он, а настоящий свиной, домашний, сознание, однако, потеряла после пяти-шести ложек, думали, не оживет. Ожила. На поправку пошла, как деревце, политое после засухи, силы набирала. И тогда я проникся к ней бешеной ненавистью, что разгадала она состав той пищи и отвергла ее всем нутром. Покоя мне такая страсть не давала.
Знал я уже точно, как я с Лидою поступлю. Только бы заманить ее к себе незаметно, окольными путями, а тогда – завязываем с бабой все это дело и на покой куда-нибудь подальше отсюда… Встала Лида на ноги, и такая из нее вышла красотка, что ноги, бывало, у меня подгибались от слабости, когда я встречал ее на улице. Старушенция заплатила мне за мою настырную работу и за поросятину всем, что у нее оставалось после красных шмонов в старые годы. Много, надо сказать, заплатила.
Но учиться Лида дальше не пошла. Пошла она в госпиталь медсестрою, чтобы фронту помогать. В тот самый госпиталь. Втюрилась там по уши в какого-то романтика, как говорят теперь, тяжелораненого. Встречает меня однажды и просит спасти его. Клянусь, говорит, я расплачусь с вами со временем, сейчас у нас ни денег, ни брошек больше нет. Спасите Игоря! В госпитале голод. Воруют мерзавцы у раненых масло и консервы. Воруют и продают. Их поймают, дядя Михей, поймают, но Игорь-то погибнет. Спасите…
Хорошо, отвечаю, а сам с трудом себя в руках сдерживаю, такая во мне страсть играет. Страсть завалить ее и ломать, и долго не отпускать, и потом уничтожить, чтобы больше не было Лиды на белом свете. Хорошо, говорю, время тяжелое, везде тыловые крысы воруют что и что нельзя, но у меня для себя на черный день припасено мясца и сала. Приходи, поделимся. Гора с горой не сходится, а человек с человеком завсегда сойдутся. Завтра, говорю, приходи, да не болтай никому про мои припасы.
И вот, Давид, сижу я у окошка и жду. Все у меня для ее приема готово. Трудно сейчас рассказать, что во мне происходило, когда увидел я Лиду, идущую через пустырь, идущую спасать своего раненого Игоря. Больше никогда не было таких немыслимых бурь во всем моем организме. Никогда. И задача еще возникла, как виду не подать, что торчит у меня, прямо из портков рвется, извини уж за подробности. Марш в чулан, говорю бабе, и – цыц, если жива быть хочешь. Я тебе, говорю, блядь, покажу двойного иммельмана!
Заходит Лидочка, поросеночек мой, оглядывается. «Дядя Михей, каждая минута дорога! Он умереть может. Будьте милосердны!..» Эти слова старушенция любила мне говорить… Хорошо, говорю, хорошо, и веришь, Давид, сейчас вот, в эту самую минуту, все во мне трясется, как тряслось тогда, и бешено сердце около самого горла ухает… Хорошо, Лидочка, только не отпущу я тебя без того, чтобы не угостить. Как хочешь, но не отпущу… Рожа-то у меня, конечно, зверская, я это сознаю, но, наверное, я тогда по-особенному как-то, не сумев совладать с собой, слова говорил, и Лида вдруг застыла на одном месте, между столом и шкафом, и вытаращила на меня глаза в безумном страхе, словно снова учуяла все обстоятельства, не умея себе в том признаться, и только шептала бескровными губами: «Нет… нет… нет…»
А мы, говорю, никаких «нет» не понимаем, садитесь, Лидочка, за стол. Еще бы минута, и не стерпел бы я… бросился бы на нее, и все было бы так, как задумал, но опять вмешалась в мою судьбу проклятая советская власть.
Стук в дверь. Отворяю, взяв себя в один момент в руки. Две старых вешалки из райсовета появились с подпиской на заем. Это надо ж ведь – в такую минуту!
Ну хорошо, что не позже. В комнату я их не пустил. Собрал быстро Лиде сальца, окорока копченого, масла, сахара, хлеба. Надолго, говорю, эта подписка, беги к своему Игорьку, в другой раз попою тебя чаем.
Надо сказать, что взяла она у меня из рук узелок со жратвой как-то машинально, думала небось в этот момент о чем-то другом. Взяла. Спасибо не сказала. Ушла. Вернее, без оглядки отвалила. И бежала не так, как бегут, когда просто спешат, а так, словно бы уносила ноги от места, на которое не могла оглянуться от страха.
Подписался я тогда на заем, как белобилетник, со скрипом, и баба подписалась, из чулана выйдя, и как только ушли советские старые шкелетины, набросился я на нее вместо девчушки и в момент успокоился. Да, говорит мне баба в отместку, ты – не летчик! Ну, я ей кулаком в бубен (лицо) врезал, с левой – поддых и говорю: «Собирай манатки. Каждая минута дорога. Допечет нас теперь эта девчонка».
В два дня мы снялись. Пару взяток дали приличных в милиции и в райсовете. Берем только драгоценности, деньги и жратву, следы заметаем, хотя их никогда не оставалось, потому что сжигали все или закапывали на пустыре разные ордена, пуговицы, ремни и так далее. Следов мы не оставляли. Тут я был спокоен. Снялись с концами. Жили припеваючи, но не без страха. И больше ничего мне тебе, Давид, говорить неохота. Серая подступает к горлу пустота, серый холод вот сюда, к душе, подступает… Узнала ведь, тварь, безошибочно узнала, а я, может, с этой секунды прикидываться не желаю. Зачем? Верно? Я ведь и фамилии всех солдатиков помню. Не забыл. Пусть хоть родственникам их напишут, что не без вести пропали солдатики, а погибли. Чего зря ждать? Как думаешь, Давид?
– Так и написать, – спрашиваю, – что съела их мразь по имени Михей, невозможный выродок рода человеческого?
– Зачем же прямо так? Пущай чего-нибудь наврут. Они врать умеют.
После этих слов людоед Михей как ни в чем не бывало стал дожирать оставшееся от обеда пюре с вялым кусочком желтого огурца. Я без ненависти, без злобы, вообще без каких-либо чувств всматривался в его заросшее до самых глаз рыло. Всматривался, как в диковинного ужасного зверя, отгоняя от себя мысль о подобии наших существ, не пытаясь даже уловить в своей голове все рассказанное этим выродком и не отшатываясь внутренне от страшного для своей совести решения, от спокойной уверенности, что я его сейчас вот, не откладывая дела в долгий ящик… пусть только дожрет пюре… придушу, сотворю суд, совершу возмездие, не жить мне без этого, ибо ничего не сумел бы я доказать следствию, даже если бы превозмог физическое омерзение к праведному, казалось бы, доносу. Доносить я не могу, вы уж меня извините.
Лучше уж на себя взять ответственность за самосуд. Суд меня осудит, и правильно, но люди оправдают и, воз, Бог простит. Поверьте, дорогие, это я сейчас так рассуждаю, а тогда не было у меня никаких ни на грамм сомнений в том, что я хотел сделать с гадиной. Не должна она была жить, не должна… Только эти слова стучали мне в виски… не должна, гадюка… не должна… не должна…
– А вообще-то раскалываться мне самому нечего. Я хоть впрямую изводил человеков откровенной корысти ради, а другие вон миллионами в Азии глушат и в Париже, говорят, учились. Жизнь до чего хочешь доведет, и пущай жизнь саму, а не меня судят, – пожрав и неожиданно воспрянув тем, что заменяло ему дух, сказал Михей. Затем пакостно и громко отрыгнул и провонял на какой-то миг непереносимой вонью своего существа больничную нашу палату, так что мне стало дурно и плоть моя вместе с душой хотела было спасительно отключиться в обмороке от тяжких и невозможных для нормального перенесения впечатлений, но я сжал в кулачине своей всю боль и жалость за загубленные жизни исцеленных в госпитале солдатиков, сжал с раздиравшим мое сердце несогласием, что такое вот может безвозмездно происходить на прекрасной земле, и, чувствуя, что вот-вот покинут меня от дурноты последние силы, что наступает, воз, конец моих дней, поднялся с койки и без примерки врезал в скулу мерзкой твари… Он отвалился головой к стене… А теперь придушу, подумал я, сейчас придушу…