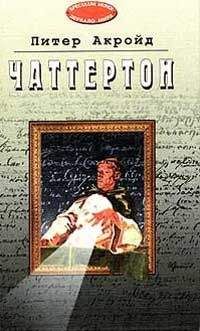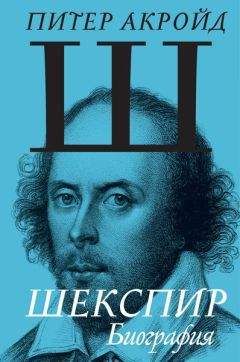Служитель взглянул на задумчивого и встревоженного ребенка.
– Это картина?
– Думаю, что да.
Тот окликнул своего коллегу, прохаживавшегося у дверей: "Чаттертон?" А он, в свою очередь, крикнул другому: "Чаттертон?", пока этот вопрос не зазвучал эхом внутри белых стен. Когда таким же образом пришел ответ, Эдварда направили в 15-ю галерею – дальше по правой стороне, потом четвертая слева. И он вернулся к отцу, снова взял его за руку и повел вперед.
Они прошли мимо выставки портретов, и в первом зале недавних приобретений Чарльз заметил крупные человеческие фигуры в различных задумчивых или беспокойных позах: одни сгибались под тяжелой ношей, другие сидели заброшенные и отчаявшиеся. В следующем помещении он увидел портреты XVIII века, где плотные и основательные фигуры людей господствовали над пейзажем, словно деревья; в третьем зале показались лица из XVII века, выглядывавшие из темных углов филенчатых интерьеров или улыбавшиеся в тени. В каждом лице Чарльз видел жизнь и историю; ему не хотелось покидать мир, в котором его собственное лицо было их спутником.
Они дошли до 15-й галереи, и Эдвард обернулся к отцу, который опять замешкался:
– Пошли, пап. Это уже наша.
Чарльз сделал глубокий вдох и быстро прошел мимо сына; даже не взглянув на другие полотна, он направился прямиком к картине, висевшей на дальней стене. Эдвард пошел за ним и увидел человека, лежащего на кровати со свесившейся до самого пола рукой.
– Вот он. – Чарльз наклонился и прошептал: – Теперь ты мне веришь? Он указал на подпись под холстом: "Чаттертон. Кисти Генри Уоллиса. 1856 г.".
Но сам Чарльз пока не хотел глядеть на изображенное тело. Вместо этого он выглянул из чердачного оконца на Брук-стрит – на дымящиеся крыши Лондона; он рассмотрел стоявшее на подоконнике растеньице, тонкие прозрачные листья которого слегка сворачивались на холодном воздухе; он заметил потухшую свечку на столе, и его взгляд поднялся выше, вдоль струйки ее угасающего дыма; он медленно повернул голову к деревянному сундуку с откинутой крышкой, а затем принялся считать клочки бумаги, разбросанные по дощатому полу. И лишь после этого он наконец взглянул на Томаса Чаттертона.
Но кто это стоял у изножья кровати, отбрасывая тень на тело поэта? А там лежал Чарльз, крепко стиснув левую руку на груди, а правую бессильно свесив на пол. Он почувствовал на лице дуновенье ветерка из открытого окна и открыл глаза. Он поднял взгляд и увидел, что над ним стоит Вивьен, и лицо ее в тени возле чердачного окна. Она плакала.
– Это не наше лицо, – говорил Эдвард. – У нас другое лицо!
– Да нет. – Чарльз слегка покачивался и поэтому, ища опоры, положил руку сыну на плечо. Ему было трудно дышать, и некоторое время он не мог говорить. – Да нет. Это Джордж Мередит. Он позировал художнику. Он притворялся Чаттертоном.
– Значит, он еще не умер! – торжествовал Эдвард. – Чаттертон не умер! Я был прав!
– Нет, – мягко сказал Чарльз. – Он еще не умер.
* * *
Роман французский этот не по нраву? Отчего?
Ты неестественным его находишь…
Ужели? Милый мой, все это жизнь:
А жизнь, как говорят, достойна Музы.
Современная любовь. Сонет 25. Джордж Мередит
– Как это может быть неестественным? – Мередит достал носовой платок из кармана своих лиловых брюк и накрыл им лицо. Теперь его голос слегка приглушала ткань. – Теперь ты видишь общие для человеческого рода черты, свободные от индивидуального выражения. Так как же маска может быть неестественной?
– Но мне как модель нужен ты. Именно ты. Твое лицо. – Уоллис зажмурился, когда в комнату хлынул зимний солнечный свет и эмалированные китайские вазы на каминной полке внезапно полыхнули огнем.
– Мое лицо, но не я сам. Мне ведь нужно быть Томасом Чаттертоном, а не Джорджем Мередитом.
– Но это будешь именно ты. В конце концов, я могу писать только то, что вижу. – Ища поддержки, Уоллис взглянул на Мэри Эллен Мередит, но та в эту минуту казалась рассеянной: она изучала собственную ладонь, сжимая и разжимая кисть правой руки.
Мередит рассмеялся и поднялся с дивана, на котором лежал раскинувшись.
– И что же ты видишь? Реальное? Идеальное? Как ты узнаешь, в чем разница? – Они оба спорили так весь день, и, к большому неудовольствию Мэри Эллен, ее муж не желал прекращать этих споров. – Когда Мольер создал Тартюфа, французский народ неожиданно обнаружил этого персонажа возле каждого семейного очага. Когда Шекспир выдумал Ромео и Джульетту, весь мир научился любить. Так где же здесь реальность?
– Значит, так ты смотришь и на собственную поэзию, если я правильно понимаю? – Говоря это, Уоллис не мог удержаться от того, чтобы снова не взглянуть на Мэри: на ее волосы, щеку и плечо так ложился свет, что она напомнила ему один из образов Джотто, чью живопись он совсем недавно изучал в Истории Турнье.
– Вовсе нет. Я не мечу так высоко. Все, на что я могу притязать, – это лишь замкнутая комнатка, тесное пространство для наблюдений, где я даю волю своему перу. Разумеется, существует некая реальность…
– Ага! Теперь ты запел по-другому!
– …Но – собирался я добавить – отнюдь не такая, которую можно изобразить. Не существует таких слов, которые могли бы определить неопределенный предмет. Горизонт. – Мередит снова растянулся на диване и, казалось, принялся всматриваться в свою жену. Она ответила ему кратким взглядом.
– Мой муж гораздо более высокого мнения о своей поэзии, нежели желает показать нам, мистер Уоллис. Он весьма горд.
– Да, Уоллис, почему бы тебе это и не изобразить? Гордыня, Гибнущая в Чердачной Каморке. В самый раз для Королевской Академии. Или поместил бы это туда, к прочим правдивым выдумкам. – Мередит указывал на книжный шкаф черного дерева, уже украшенный группами персонажей Чосера, Боккаччо и Шекспира.
"Нет, – подумал Уоллис, – она творение не Джотто, а скорее Отто Рунге[71]".
– Мне пора, – сказал он мягко. – Я должен начать работу, пока не стемнеет.
Мэри поднялась со стула, и ее платье ярко-синего цвета взметнулось вокруг нее волной, будто она была некой богиней, выходившей из Средиземного моря.
– Джордж, ты должен проводить мистера Уоллиса до остановки. Иначе он заблудится в этом тумане.
– В каком еще тумане, дорогая?
Она позвонила в колокольчик, чтобы слуга принес Уоллису его Ольстер,[72] а пока они ждали, Мередит подпрыгивал на ковре позади них; он делал невидимым мечом выпады в спину своего друга.
– Нет, я уж не дам ему остановки, – сказал он. – Вот, получай, и еще, и еще.
* * *
Они оба вышли из дома на Фрит-стрит, и пока они медленным шагом шли к остановке кэба, Уоллис заметил, что Мередит утратил ту искусственность манер, которую он сохранял в присутствии жены. Он стал рассказывать о каких-то картинах художников Назорейской школы,[73] которые видел накануне в Сент-Джеймской галерее, и Уоллиса поразило его воодушевление.
– Я люблю детали, – сказал Мередит, когда они повернули на Сохо-Сквер. – Терпеть не могу пышные эффекты, разве что они проистекают из мелочей. Стэнфилды и Маклизы[74] – это сущий театр, сущий Диккенс на холсте. – Лучи закатного солнца в последний раз касались теплой коры деревьев, стоявших на площади, а на серый камень окрестных домов лился мягкий свет. В воздухе висел смутный туман, но, казалось, он лишь расширял свет – как будто его молочные прожилки разрастались вовне и превращались в дым. В одном из домов сверкали две высокие оконные рамы, и Мередит указал на них другу: – Это и есть то, что ты называешь электротипированием?
Уоллис где-то витал мыслями, и он лишь с некоторым усилием уловил последнюю ремарку друга.
– Дает вполне кейповский эффект,[75] правда? – Некоторое время они шли молча, а потом Уоллис прибавил: – Видишь, как в сумерках все цвета меркнут, переходя друг в друга. – Он указал на клочок оберточной бумаги, который ветер носил между деревьями: – При таком освещении только синий и белый сохраняют свою яркость.
– Да, милый Генри, все меркнет. – Замогильный тон Мередита рассмешил их обоих, но затем он добавил тем же траурным голосом: – И, думаю, это правда, что мы видим природу глазами художника.
– Ну, только если ты довольствуешься копированием. Но погляди-ка, Уоллис взял Мередита под руку, и они пересекли площадь, – замечаешь, как свет, просачиваясь сквозь листья, становится голубым? Никому еще не удавалось запечатлеть этот эффект на холсте. Опиши его в стихотворении, Джордж, и он – твой.
– Я уже перестал понимать, что такое мое или чужое.
У стоянки на Оксфорд-стрит ждал один-единственный кэб, и дыхание лошади явственно окутывало клубами пара сгорбленную фигуру извозчика.
– В Челси! – крикнул Мередит, захлопнув дверцу за своим другом.
Кэбмен, посасывавший глиняную трубку, лишь на миг обернулся, а потом взмахнул кнутом. Мередит взглянул на Уоллиса через приоткрытое окошко.