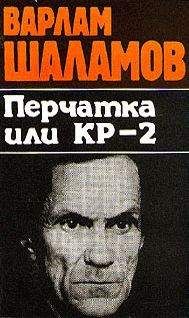Ущерб, убыль людей в то время пополнялись с материка легко, и в смертную карусель запускали все новые и новые этапы. В тридцать восьмом даже пешие этапы водили в Ягодное. Из колонны в 300 человек до Ягодного доходили восемь, остальные оседали в пути, отморажи-вали ноги, умирали. Никаких оздоровительных команд не было для врагов народа.
Иначе было в войну. Людские пополнения Москва дать не могла. Лагерному начальству было велено беречь тот списочный состав, который уже заброшен, закреплен. Вот тут-то медицине и даны были кое-какие права. В это время я на прииске "Спокойном" встретился с удивительной цифрой. Из списочного состава в 3 000 человек на работе в первой смене - 98. Остальные - или в стационарах, или в полустационарах, или в больницах, или на амбулаторном освобождении.
Вот и "Беличья" имела тогда право держать у себя из больных команду выздоравливающих. ОК или даже ОП - оздоровительную команду или оздоровительный пункт.
При больницах тогда и было сосредоточено большое количество даровой арестантской рабочей силы, желающих за пайку, за лишний день, проведенный в больнице, своротить целые горы любой породы, кроме каменного грунта золотого забоя.
Выздоравливающие "Беличьей" и могли, и умели, и уже своротили золотые горы - след их труда - золотые разрезы приисков Севера, но не справились с осушением "Беличьей" - голубой мечтой главврача, "Черной мамы". Не могли засыпать болото вокруг больницы. "Беличья" стоит на горке, в километре от центральной трассы Магадан - Сусуман. Этот километр зимой не составлял проблемы - ни пешей, ни конной, ни автомобильной. "Зимник" - главная сила дорог Колымы. Но летом болото чавкает, хлюпает, конвой ведет больных поодиночке, заставляя их прыгать с кочки на кочку, с камушка на камушек, с тропки на тропку, хотя еще зимой в мерзлоте вырублена идеально расчерченная опытной рукой какого-нибудь инженера из больных тропка.
Но летом мерзлота начинает отступать, и неизвестны пределы, последние рубежи, куда мерзлота отступит. На метр? На тысячу метров? Никто этого не знает. Ни один гидрограф, прибывающий на "Дугласе" из Москвы, и ни один якут, чьи отцы и деды родились тут же, на этой же болотистой земле.
Канавы засыпают камнем. Горы известняка заготовлены здесь же, рядом, подземные толчки, обвалы, оползни, угрожающие жизни, - все это при ослепительно ярком небе: на Колыме не бывает дождей, дожди, туман - только на побережье.
Мелиорацией занимается само незакатное солнце.
В эту болотистую дорогу - километр от "Беличьей" до трассы - вбиты сорок тысяч трудодней, миллионы часов (труда) выздоравливающих. Каждый должен был бросить камень в бездорожную глубину болота. Обслуга каждый летний день выбрасывала в болото камни. Болото чавкало и проглатывало дары.
Колымские болота - могила посерьезней каких-нибудь славянских курганов или перешейка, который был засыпан армией Ксеркса.
Каждый больной, выписываясь из "Беличьей", должен был бросить камень в больничное болото - плиту известняка, заготовленную здесь другими больными или обслугой во время "ударников". Тысячи людей бросали камни в болото. Болото чавкало и проглатывало плиты.
За три года энергичной работы не было достигнуто никаких результатов. Снова требовался зимник, и бесславная борьба с природой замирала до весны. Весной все начиналось сначала. Но за три лета никакой дороги сделать к больнице не удалось, по которой могла бы проскочить автомашина. По-прежнему приходилось выводить выписанных прыжками с кочки на кочку. И по таким же кочкам приводить на лечение.
После трехлетних непрерывных всеобщих усилий начерчен был только пунктир - некий зигзагообразный ненадежный путь от трассы до "Беличьей", путь, по которому нельзя было бежать, идти или ехать, а можно было только прыгать с плиты на плиту - как тысячу лет назад с кочки на кочку.
Этот бесславный поединок с природой озлобил главврача "Черную маму".
Болото торжествовало.
Я пробирался в больницу прыжками. Шофер, парень опытный, оставался на трассе с машиной - чтоб не увели грузовик прохожие, не раздели мотор. В эту белую ночь грабители возникают неизвестно откуда, и водители не оставляют машины ни на час. Это - быт.
Конвоир заставил меня прыгать по белым плитам до больницы и, оставив меня сидеть на земле у крыльца, понес мой пакет в избушку.
Чуть дальше двух деревянных бараков тянулись серые, как сама тайга, ряды огромных брезентовых палаток. Между палатками был проложен настил из жердей, тротуар из тальника, приподнятый над камнем значительно. "Беличья" стоит на устье ручья, боится потопов, грозовых ливней, паводков колымских.
Брезентовые палатки не только напоминали о бренности мира, но самым суровым тоном твердили, что ты, доходяга, здесь человек нежелательный, хотя и не случайный. С жизнью твоей считаться тут будут мало. На "Беличьей" не чувствовалось уюта - а лишь аврал.
Брезентовое небо палаток "Беличьей" ничем не отличалось от брезентового неба палаток прииска "Партизан" 1937 года, изорванное, продуваемое всеми ветрами. Не отличалось и от обложенных торфом, утепленных, двухнарных землянок Витаминного комбината, защищавших только от ветра, не от мороза. Но и защита от ветра для доходяги большое дело.
Звезды же, видимые сквозь дырки брезентового потолка, были везде одни и те же: скошенный чертеж небосвода Дальнего Севера.
В звездах, в надеждах разницы не было, но не было и нужды ни в звездах, ни в надеждах.
На "Беличьей" ветер гулял по всем палаткам, именуемым отделениями Центральной районной больницы, открывая для больного двери, захлопывая кабинеты.
Меня это мало смущало. Мне было просто не дано постичь уют деревянной стены - сравнить ее с брезентом. Брезентовыми были мои стены, брезентовым было небо. Случайные ночевки в дереве на транзитках не запоминались ни как счастье, ни как надежда, возможность, которой можно добиться.
Аркагалинская шахта. Там было более всего дерева. Но там было много мучений, и именно оттуда я уехал на Джелгалу получать срок: в Аркагале я уже был намеченной жертвой, уже был в списках и умелых руках провокаторов из спецзоны.
Брезент больничный был разочарованием тела, а не души. Тело мое дрожало от всякого дуновения ветра, я корчился, не мог остановить дрожь всей своей кожи от пальцев ног до затылка.
В темной палатке не было даже печки. Где-то в середине огромного числа свежесрублен-ных топчанов было и мое завтрашнее, сегодняшнее место - топчан с деревянным подголовни-ком - ни матраса, ни подушки, а только топчан, подголовник, вытертое, ветхое одеяло, в которое можно обернуться, как в римскую тогу или плащ саддукеев. Сквозь вытертое одеяло ты увидишь римские звезды. Но звезды Колымы не были римскими звездами. Чертеж звездного неба Дальнего Севера иной, чем в евангельских местах.
Я замотал в одеяло, как в небо, голову наглухо, согреваясь единственным возможным способом, хорошо мне знакомым.
Кто-то взял меня за плечи и повел куда-то по земляной дорожке. Я спотыкался босыми ногами, ушибался обо что-то. Пальцы мои гноились от отморожений, не заживших еще с тридцать восьмого года.
Прежде чем лечь на топчан, я должен быть вымыт. И мыть меня будет некий Александр Иванович, человек в двух халатах поверх телогрейки - больничный санитар из заключенных, к тому же из литерников, то есть из пятьдесят восьмой статьи, значит, на "истории болезни", а не в штате, ибо штатным может быть только бытовик.
Деревянная шайка, бочка с водой, черпак, шкаф с бельем - все это вмещалось в уголок барака, где стоял топчан Александра Ивановича.
Александр Иванович налил мне одну шайку воды из бочки, но я за много лет привык к символическим баням, к сверхбережному расходу воды, которая добывается из пересохших ручьев летом, а зимой топится - из снега. Я мог и умел вымыться любым количеством воды - от чайной ложки до цистерны. Даже чайной ложкой воды, я промыл бы глаза - и все. А здесь была не ложка, целая шайка.
Стричь меня было не надо, я был прилично острижен под машинку бывшим полковником Генерального штаба парикмахером Руденко.
Вода, символическая больничная вода была холодной, конечно. Но не ледяной, как вся вода Колымы зимой и летом. Да это и не было важно. Даже кипяток не согрел бы мое тело. А плесни на мою кожу черпак адской кипящей смолы - адский жар не согрел бы нутра. Об ожогах я не думал и не в аду, когда прижимался голым животом к горячей бойлерной трубе в золотом разрезе прииска "Партизан". Это было зимой 1938 года - тысячу лет назад. После "Партизана" я устойчив к адской смоле. Но на "Беличьей" адской смолой и не пользовались. Шайка холод-ной воды на взгляд или, вернее, на ощупь, по мнению пальца Александра Ивановича, горячей или теплой и быть не могла. Не ледяная - и этого вполне достаточно, по мнению Александра Ивановича. А мне все это было и вовсе безразлично, по мнению моего собственного тела, - а тело посерьезнее, покапризней человеческой души - тело имеет больше нравственных достоинств, прав и обязанностей.