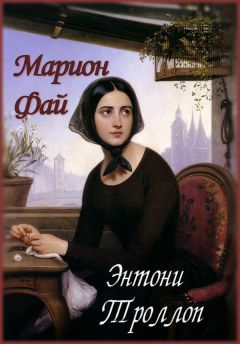— Я, конечно, того мнения, что молодым девушкам следует выходить за людей своего круга.
— От этого столько зависит… не так ли, лорд Льюддьютль? Вся будущая кровь наших первых фамилий! По-моему, за такое поведение нет слишком строгих кар.
— Но поможет ли строгость?
— Ничто другое и не может помочь. Мне лично кажется, что отцу, в таких случаях, следовало бы разрешать запереть свою дочь. Но маркиз так слаб.
— Страна ни на минуту не допустила бы этого.
— Тем хуже для страны, — решила милэди, воздевая руки. — Но брат, если возможно, хуже сестры.
— Гэмпстед?
— Он положительно ненавидит всякий призрак аристократии.
— Это нелепо.
— Крайне нелепо, — сказала маркиза, которой показалось, что ее поощряют, — крайне нелепо, ужасно, безобразно. Он — совершенный революционер.
— Ну, нет, мне кажется, — сказал милорд, которому приблизительно известны были политические убеждения Гэмпстеда.
— Право, так. Помилуйте, он поощряет сестру! Он позволил бы ей выйти за башмачника, лишь бы ему удалось унизить родную семью. Подумайте, что я-то должна чувствовать, я, с моими дорогими мальчиками!
— Разве он с ними не ласков?
— Я предпочла бы, чтоб он никогда их не видал!
— Этого я совсем не понимаю, — сказал разгневанный лорд.
Но она совершенно превратно истолковала себе его слова.
— Когда я подумаю, что он такое, до чего он доведет всю семью, если останется в живых, мне невыносимо видеть, как он прикасается к ним. Подумайте о крови Траффордов, о крови Монтрезоров, о крови Готвилей; подумайте о вашей собственной крови, которая теперь сольется с нашей: подумайте, что вся эта кровь будет осквернена потому только, что этому господину угодно устроить позорный, отвратительный брак с исключительной целью унизить нас всех.
— Извините, леди Кинсбёри; я нисколько не буду унижен.
— Подумайте о нас, о моих детях.
— И они также. Может быть, это — несчастие, но унижения тут никакого не будет. Честь может пострадать только от бесчестного. Жалею, что леди Франсес не отдала своего сердца другому, но совершенно уверен, что родовое имя безопасно в ее руках. Что же касается до Гэмпстеда, это — молодой человек, убеждениям которого я не сочувствую, — но я уверен, что он джентльмен.
— Желала бы я, чтоб он умер, — сказала леди Кинсбёри.
— Леди Кинсбёри!
— Желала бы я, чтоб он умер!
— Могу только сказать, — сказал лорд Льюддьютль, поднимаясь со стула, — что вы крайне неудачно выбрали себе поверенного. Лорд Гэмпстед — человек, которого я с гордостью назвал бы своим другом. Политические убеждения человека — его личное дело. Его честь, бескорыстие и даже поведение до некоторой степени принадлежат его семье. Не думаю, чтоб его отец или братья, или мачеха, когда-нибудь будут иметь повод покраснеть за него. — С этим лорд Льюддьютль поклонялся маркизе и вышел из комнаты с такой величавой осанкой, которую едва ли бы узнали те, кто видел, как он таскал ноги в палате общин.
Обед в этот день прошел очень тихо, и лэди Кинсбёри ушла к себе даже ранее обыкновенного. Разговор за обедом был скучный и преимущественно вращался на церковных вопросах. Мистер Гринвуд старался быть веселым, а приходский священник, жена его и дочь чувствовали себя неловко. Лорд Льюддьютль почти не раскрывал рта. Лэди Амальдина, уладив единственный, занимавший ее вопрос, была просто довольна. На другой день утром жених ее уехал ранее, чем предполагал. Ему необходимо, уверял он, собрать некоторые сведения в Денбиге прежде, чем произнести свою речь. Ему удалось добыть себе особое отделение, и здесь он твердил свой урок, пока не почувствовал, что дальнейшие повторения только собьют его с толку.
— Вы как-то пригласили Фанни в себе в замок, — сказала леди Кинсбёри племяннице на следующее утро.
— Мама думала, что хорошо будет пригласить их обоих.
— Они этого не заслужили. Поведение их было таково, что я вынуждена сказать, что они ничего не заслужили от моей семьи. Говорила она о своей этой свадьбе?
— Упомянула.
— Видишь!
— Да, но в сущности ничего почти не говорилось. Конечно, гораздо более разговоров было о моей. Она говорила, что охотно была бы дружкой.
— Пожалуйста, не приглашай ее.
— Отчего же, тетушка?
— Я никак не могла бы быть у тебя на свадьбе, если ты пригласишь ее. Я вынуждена была изгнать ее из своего сердца.
— Бедная Фанни!
— Но она не стыдилась того, что затеяла?
— Кажется, что нет. Она не из тех, которые когда-нибудь стыдятся своих поступков.
— Нет, нет. Ее ничем не пристыдишь. Она знать не хочет никаких приличий, точно их не существует. Я так и жду, что услышу, что она брака вообще не признает.
— Тетя Клара!
— Чего можно ожидать от тех учений, которых они с братом придерживаются? Слава Богу, ты никогда и не слышала о таких вещах. У меня сердце разрывается как подумаю о том, что мои родные детки наверное услышат, не сегодня, завтра, от брата и сестры. Но пожалуйста, Амальдина, не приглашай ее в себе в дружки.
Лэди Амальдина, помня, что кузина очень хороша собой, а также, что могло быть нелегко набрать двадцать титулованных девушек, тетке слова не дала.
Когда мать представила вопрос на разрешение Джорджа Родена, он не нашел никакой причины, отчего бы ей не обедать в Гендон-Голле. Сам он рад был иметь случай загладить то недружелюбное чувство, которое несомненно существовало между ним и его другом, когда они расстались на дороге. Что касается до его матери, хорошо было бы, чтоб она настолько возвратилась в обычаям света, чтоб пообедать у приятеля сына.
— Ты этим только возвратишься к своим прежним привычкам, — сказал он.
— Ничего ты не знаешь о моих прежних привычках, — отвечала она почти сердито.
— Я не предлагаю никаких вопросов, и старался приучить себя мало об этом заботиться. Но я знаю, что оно так было. — После паузы он возвратился к мыслям того же рода. — Если бы мой отец был принцем, мне кажется, я бы этим не гордился.
— Хорошо родиться джентльменом, — сказала она.
— Хорошо «быть» джентльменом, и если блага, обыкновенно связанные с высоким происхождением, помогают человеку приобрести благородство чувств и широту взглядов, то легко может быть, что хорошее происхождение имеет свою цену. Но если человек окажется недостойным своего происхождения — как многие, тогда это преступление.
— Все это само собой разумеется, Джордж.
— А между тем оно не так. Хотя бы сам человек был негодяй, дурак и трус, он считается благородным потому только, что кровь Говардов течет в его жилах. И что еще хуже: хотя бы другому дано было истинное и величайшее благородство, он почти не смеет стоять выпрямившись перед лордами и герцогами, в виду своего недостоинства.
— Все это уже исчезает.
— Желал бы я, чтоб можно было несколько ускорить это исчезновение, и этому можно помочь исчезнуть. Быть может, в наши дни прогресс пойдет быстрее. Но ты верно позволишь мне написать Гэмпстеду и сказать, что ты будешь.
Она согласилась, и таким образом эта часть дела была улажена.
После этого она сама постаралась увидеть квакера, однажды вечером, когда он возвращался домой.
— Да, — сказал мистер Фай, — слыхал я от Марион о твоем предложении. Но зачем молодому лорду желать видеть такого человека, как я, у себя за столом?
— Он короткий приятель Джорджа.
— Охотно верю, что твой сын хорошо выбирает себе друзей, так как вижу, что он осторожный и разумный молодой человек, который не предается чрезмерно всяким буйным увеселениям. — Джордж нередко бывал в театре, чем оскорблял понятия квакера, и этим он оправдывал употребление слова «чрезмерно» и лишался права на безусловную похвалу. — А потому я не стану с ним ссориться из-за того, что он избрал себе друга среди великих мира сего. Но, «свой своему поневоле брат» — хорошее правило. По-моему, усталая ломовая лошадь, как я, не должна стоять в одной конюшне с охотничьими скакунами.
— Этот молодой человек предпочитает общество таких людей, как вы и Джордж, обществу подобных ему аристократов.
— Не думаю, чтоб он этим обнаруживал особое благоразумие.
— Во всяком случае, вам следовало бы поверить его добрым намерениям.
— Не мое дело судить его, в том или другом смысле. Что ж, он просил, чтоб и Марион посетила его?
— Конечно. Отчего бы девочке хоть сколько-нибудь не видеть свет, не развлечься?
— Мало будет пользы моей Марион от таких развлечений, Гэмпстед Роден, а вред, пожалуй, будет. Неужели ты станешь утверждать, что такие развлечения непременно должны послужить на пользу девушке, рожденной для исполнения тяжелых обязанностей суровой жизни?
— Я, в чем угодно, положилась бы на Марион, — горячо сказала мистрисс Роден.