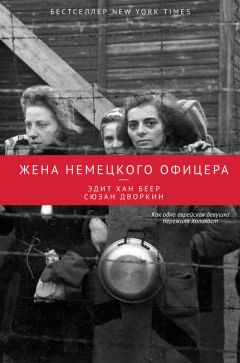Викарий, выпив стакан портвейна, вскоре заспешил на какую-то важную встречу, а робкий племянник, как оказалось тяжелобольной, был уложен в постель. Арчер с гувернером остались беседовать за стаканом вина; и вдруг Арчер ясно ощутил, что эти разговоры ясно напоминают ему общение с Недом Уинсеттом, которого он так давно не видел.
Оказалось, что у племянника миссис Карфри нашли туберкулез и он был вынужден покинуть Харроу и отправиться в Швейцарию, где он провел два года в мягком климате у озера Леман. Поскольку он был склонен к чтению книг, ему наняли мистера Ривьера, который и привез его назад в Англию и должен оставаться с ним до весны, когда он отправится в Оксфорд. И с подкупающей простотой мистер Ривьер добавил, что тогда ему придется искать другую работу.
Было непохоже, подумал Арчер, что он долго останется без места — с такими разносторонними интересами и дарованиями. Он был лет тридцати, с худощавым некрасивым лицом (Мэй назвала бы его внешность заурядной), которому игра ума придавала невероятную выразительность; но в живости его лица не было ничего пошлого и легкомысленного.
Отец Ривьера умер молодым; он занимал небольшой дипломатический пост, и не подлежало сомнению, что сын пойдет по стопам отца. Но непреодолимая страсть к писательству заставила молодого человека заняться журналистикой, затем литературой (без всякого успеха) и, наконец, после подобных попыток и изломов судьбы, от подробности которых он избавил своего слушателя, он сделался гувернером английских юношей в Швейцарии.
Впрочем, перед этим Ривьер долго жил в Париже, был частым гостем у Гонкуров, получил от Мопассана совет не писать (что, впрочем, показалось Арчеру высочайшей честью) и часто толковал с Мериме в доме его матери. Было очевидным, что он всегда отчаянно нуждался в деньгах (имея на руках мать и незамужнюю сестру) и что его литературные амбиции похоронены навечно. С материальной точки зрения его положение не особенно отличалось от положения Уинсетта; но он жил в мире, который, по его словам, обеспечивал духовную пищу тому, кто в этом нуждался. Поскольку Уинсетт умирал именно от того, что не мог получить этой пищи, Арчер с некоторой завистью посмотрел на этого пылкого нищего, который, будучи бедняком, ощущал себя богачом.
— Я думаю, монсеньор, вы не будете возражать, что интеллектуальная свобода и независимость не нуждается в официальном одобрении власть имущих или чьих-то критических суждениях? Именно поэтому я бросил журналистику и занялся довольно тупым делом — стал работать репетитором или частным секретарем. Конечно, это сплошная тягомотина, но никто не посягает на твою моральную свободу, и ты, как говорят французы, остаешься quant à soi.[69] И когда возникает любопытный разговор, ты можешь вступить в него и высказать любую точку зрения абсолютно бескомпромиссно, не оглядываясь ни на кого и отвечая только за себя. О, интересная беседа — ничто не может сравниться с ней, не так ли? Воздух идей — это единственный воздух, которым можно дышать. И я никогда не жалел, что бросил дипломатию и журналистику — две различные формы самоотречения.
Он закурил новую папиросу и остановил взгляд на Арчере.
— Оставаться самим собой и смотреть жизни в лицо — ради этого можно жить и на чердаке, не правда ли, монсеньор? Но к сожалению, чердак также надо оплачивать, и я боюсь, что тратить жизнь на частное гувернерство, равно как и еще на что-нибудь «частное», примерно так же вредно для развития воображения, как должность второго секретаря посольства в Будапеште. Иногда мне кажется, что я должен рискнуть — по-крупному. К примеру, как вы полагаете, могу ли я рассчитывать на что-то в Нью-Йорке?
Арчер изумленно уставился на собеседника. Нью-Йорк для молодого человека, приятельствовавшего с Гонкурами и Флобером, который считает безыдейную жизнь невозможной! Он продолжал ошеломленно смотреть на него, раздумывая, как бы ему объяснить, что все его преимущества и дарования будут, несомненно, только мешать ему.
— Нью-Йорк… Нью-Йорк… Но почему это должен быть именно Нью-Йорк? — запинаясь, произнес он, силясь представить, что же такое может предложить его родной город человеку, который, по-видимому, нуждается только в интересной беседе.
Внезапный румянец окрасил бледную кожу месье Ривьера.
— Я… Я думал, в вашей столице… Неужели интеллектуальная жизнь богаче здесь? — спросил он. Затем, очевидно, ему пришла в голову мысль о том, что его могут принять за просителя, и он поспешно продолжил: — Иногда высказываешь мысли, обращаясь больше к себе, чем к собеседнику. На самом деле я вовсе не собираюсь… — И, поднявшись, прибавил непринужденно: — Однако, миссис Карфри, наверное, считает, что пришла пора нам подняться наверх.
Возвращаясь домой, Арчер глубоко задумался над их разговором. Час, проведенный с месье Ривьером, подействовал на него как глоток свежего воздуха, и он импульсивно едва не пригласил его обедать на следующий день, но он уже начал осознавать, почему женатые мужчины не всегда поддаются своим внезапным импульсам.
— Этот гувернер весьма интересный человек — мы с ним прекрасно побеседовали после обеда о книгах и разных других материях, — осторожно заметил он, сидя в двуколке.
Мэй пробудилась от мечтательной дремы, которая до женитьбы казалась ему столь многозначительной, пока шесть месяцев, проведенные вместе, не дали ему к ней ключа.
— Маленький француз? Разве он не показался тебе ужасно заурядным? — холодно спросила она, и он догадался, что она разочарована тем, что пришлось обедать в обществе викария и гувернера. Это в Лондоне-то! Разочарование это было вызвано не то чтобы снобизмом, а присущим старому Нью-Йорку понятием, ради чего стоит, а ради чего не стоит подвергать свое достоинство риску общения с незнакомцами в другой стране. Если бы родители Мэй принимали миссис Карфри на Пятой авеню, они бы предложили ей что-нибудь более весомое, чем учитель и священник.
Арчер был раздражен и принял вызов.
— Заурядным? Заурядным в чем? — осведомился он, и Мэй отвечала с неожиданной готовностью:
— Во всем, кроме своих занятий. Эти люди всегда так неловки в обществе. Но впрочем, — обезоруживающе добавила она, — у меня просто не было случая оценить его ум.
Арчеру не нравилась ее манера произносить «умный», впрочем так же, как и «заурядный», и он внезапно испугался своей растущей склонности фиксироваться на тех чертах в жене, которые ему не нравились. В конце концов, ее точка зрения не была для него новостью. Это была точка зрения любого из людей, среди которых он вырос, и он принимал ее как должное, хотя и не придавал ей большого значения. Еще несколько месяцев назад он не знал ни одной «приличной» женщины, которая смотрела бы на жизнь иначе, но ведь если мужчина его круга женится, то непременно на приличной женщине…
— Ладно, тогда я не приглашу его обедать, — заключил он со смехом, и Мэй, сбитая с толку, удивленно спросила:
— Боже, обедать? Гувернера миссис Карфри?
— Во всяком случае, не в один день с семейством Карфри, если ты против. Но я бы не возражал еще раз побеседовать с ним. Он спрашивал про работу в Нью-Йорке.
Изумление Мэй пересилило ее желание быть нейтральной — Арчер был уверен, что она заподозрила, что он заразился этой тлетворной «иностранщиной».
— Работу в Нью-Йорке? Какую? Мы не держим французских гувернеров — что он будет делать?
— Главным образом, как я понял, наслаждаться приятной беседой, — упрямо парировал Арчер, и она одобрительно рассмеялась:
— О Ньюланд, как забавно! Как это по-французски!
В целом он был даже рад, что она обратила в шутку его желание пригласить месье Ривьера. Было бы трудно избежать в послеобеденном разговоре вопроса о Нью-Йорке; а чем больше Арчер думал об этом, тем меньше он мог вписать месье Ривьера в картину того Нью-Йорка, каким он знал этот город.
Он вдруг ощутил с холодной дрожью внутри, что еще не одна проблема будет впредь отрицательно решена за него; но когда, заплатив кучеру, он прошел в дом вслед за длинным шлейфом жены, он решил утешиться банальным суждением, что первые шесть месяцев брака всегда бывают самыми трудными.
«После этого, я надеюсь, мы притремся друг к другу», — подумал он. Но он прекрасно понимал — хуже всего было то, что давление Мэй было направлено именно на те углы его натуры, остроту которых он бы предпочел сохранить.
Небольшая яркая лужайка простиралась до скалистого обрыва, за которым виднелось огромное яркое море.
Дерн аккуратно окаймляла полоса из алой герани и колеуса, и чугунные вазы, выкрашенные в цвет шоколада, были расставлены, через равные промежутки, по краю дорожки, которая вела к морю, а на аккуратно выметенный гравий ниспадали гирлянды гераний и петуний.