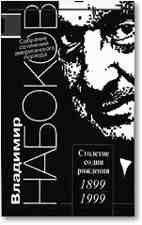— Ну, – спросил я, – теперь в чем дело?
— Поезжайте-ка вы все же поездом, – сказал он. – Я не желаю ради вас калечить машину. Вон линия на Сен-Дамье, вам еще повезло, что вы хоть сюда добрались.
Мне повезло даже сильнее, чем он полагал, потому что через несколько минут должен был подойти поезд. Станционный жандарм божился, что к девяти я буду в Сен-Дамье. Эта, последняя часть моего пути была самой смутной. В вагоне я оказался один, и странное оцепенение обуяло меня: при всем нетерпении я жутко боялся заснуть и пропустить станцию. Поезд останавливался часто, и всякий раз я изнемогал, отыскивая и разбирая название станции. В какой-то миг меня пронзило мерзкое ощущение, что я только сию минуту проснулся после невесть сколько продлившейся тяжкой дремоты, – и когда я посмотрел на часы, было четверть десятого. Неужели прошляпил? Я намеревался уже дернуть стоп-кран, как ощутил замедление хода и, высунувшись в окно, увидел проплывающий мимо и застывающий светящийся знак: “Сен-Дамье”.
Четверть часа спотыкливой прогулки по темным проулкам и сосновому, судя по шумным вздохам, лесу привели меня к больнице Сен-Дамье. Я услышал за дверью возню и сопение, и толстый старик, облаченный в плотный серый свитер взамен пиджака, и в изношенных войлочных шлепанцах, впустил меня. Я очутился в подобии канцелярии, тускло освещенном голой и хилой электрической лампой, с одного боку как бы одетой в пыль. Старик, моргая, смотрел на меня, илистые наносы сна блестели на оплывшем лице, и неизвестно почему, я заговорил шепотом.
— Я приехал, – сказал я, – чтобы повидать мосье Себастьяна Найта. K-n-i-g-h-t. Night. Найт.
Он крякнул и тяжело осел за письменный стол под висячей лампой.
— Поздновато для посетителей, – пробормотал он, ровно бы себе самому.
— Пришла телеграмма, – сказал я, – мой брат очень болен, – и проговорив это, я вдруг осознал, что делаю вид, будто у меня нет и тени сомнения, что Себастьян еще жив.
— Как фамилия? – со вздохом спросил он.
— Найт, – сказал я. – Начинается на “K”. Это английская фамилия.
— Иностранные фамилии следовало бы заменять номерами, – проворчал старик, – так оно было бы проще. Тут один больной помер прошлой ночью, так у него фамилия...
Жуткая мысль, что он говорит о Себастьяне, оглушила меня... Неужто я все-таки опоздал?
— Вы хотите сказать... – начал я, но он помотал головой, листая конторскую книгу, лежавшую на столе.
— Нет, – проворчал он, – английский мосье не умер. K, K, K...
— K, n, i, g... – снова начал я.
— C'est bon, c'est bon[60], – перебил он. – К, н, К, г ... н... Я не идиот, знаете ли. Номер тридцать шесть.
Он позвенел в колокольчик и с зевком отвалился в кресле. Я ходил туда-сюда по комнате, трепеща от неодолимого нетерпения. Наконец вышла сестра, и ночной портье указал ей на меня.
— Номер тридцать шесть, – сказал он сестре.
Я пошел за ней следом по белому коридору и по короткому лестничному маршу.
— Как он? – не выдержал я.
— Не знаю, – сказала она и подвела меня к другой сестре, сидевшей за столиком в конце другого белого коридора, точной копии первого, и читавшей книгу.
— Посетитель к тридцать шестому, – сказала моя провожатая и тихо скользнула прочь.
— Но английский мосье спит, – сказала сестра, молодая круглолицая женщина с очень маленьким и очень блестящим носиком.
— Ему лучше? – спросил я. – Понимаете, я его брат, я получил телеграмму...
— По-моему, ему получше, – с улыбкой сказала сестра, и это была самая прелестная улыбка, какую я только мог себе вообразить.
— Вчера утром он перенес очень сильный сердечный приступ, очень. А сейчас спит.
— Послушайте, – сказал я, вручая ей монету в десять или в двадцать франков, – я завтра еще приду, но мне бы хотелось зайти к нему теперь и побыть с ним минуту.
— О, но только не разбудите его, – сказала она, опять улыбнувшись.
— Не разбужу. Я просто посижу с ним рядом, всего только минуту.
— Право, не знаю, – сказала она. – Конечно, вы можете туда заглянуть, но только будьте очень осторожны.
Она подвела меня к двери под номером тридцать шесть, и мы вошли в крохотную комнатку, род чулана, с кушеткой; она слегка подтолкнула внутреннюю дверь, уже приотворенную, и я на миг заглянул в темную палату. Сначала я слышал лишь стук моего сердца, но после различил быстрое и тихое дыхание. Я напряг глаза: ширма или что-то еще наполовину обступала койку, да и слишком было темно, чтобы различить Себастьяна.
— Ну вот, – шепнула она. – Я оставлю дверь приоткрытой, а вы можете минутку посидеть вот тут, на кушетке.
Она включила маленькую лампу под синим абажуром и оставила меня одного. Сдуру я было сунулся в карман, за портсигаром. Руки еще тряслись, но я испытывал счастье. Он жив. Он мирно спит. Значит, сердце, вот, значит, как, – это оно его уложило... То же самое, что с матерью. Но ему лучше, надежда есть. Я поднял бы на ноги всех специалистов по сердечным болезням, какие есть на свете, лишь бы его спасти. Его присутствие в соседней комнате, тихие звуки дыхания, сообщали мне ощущение безопасности, мира, дивного покоя. И сидя там, и слушая, и сжимая ладони, я думал о всех минувших годах, о наших редких, коротких встречах и знал, что теперь, едва он сможет выслушать меня, я скажу ему, что хочет он того или нет, но я теперь буду всегда рядом с ним. Мой странный сон, вера в некую важную истину, которой он поделился бы со мной перед смертью, – представлялись мне сейчас неясными, отвлеченными, словно бы потонувшими в теплом токе более простых, более человеческих чувств, в приливе любви к человеку, спящему за этой приотворенной дверью. Как мы смогли разойтись? Отчего я вечно был так туп, замкнут, несмел при наших недолгих разговорах в Париже? Сейчас я уйду и скоротаю ночь в отеле, или, может статься, мне отведут комнату здесь, в больнице, хотя бы до времени, когда я смогу повидаться с ним? На миг мне почудилось, что легкий ход дыхания задержался, что он проснулся и издал тихий сдавленный звук, прежде чем вновь погрузиться в сон: но вот ритм возобновился, так негромко, что я едва отличал его от собственного дыхания, сидя и вслушиваясь. О, я рассказал бы ему о тысяче разных вещей, я рассказал бы ему о “Призматическом фацете”, и об “Успехе”, и о “Потешной горе”, об “Альбиносах в черном”, об “Изнанке Луны”, об “Утерянных вещах” и о “Неясном асфоделе” – обо всех этих книгах, которые я знал так хорошо, как если бы сам их написал. И он бы тоже разговорился. Как мало я знал о его жизни! Но теперь я каждый миг научался чему-то. Эта едва отворенная дверь, это была наилучшая связь, какую лишь можно вообразить. Нежное дыхание говорило мне о Себастьяне больше всего, что я знал когда-либо прежде. Если бы можно было курить, счастье мое было бы полным. Пружина клацнула в кушетке, когда я слегка переменил позу, и я напугался, что она могла потревожить его сон. Но нет: мягкий звук был здесь, он следовал узкой тропой, казалось, бегущей по самому краю времени, то ныряя в низину, то вновь появляясь, – уверенно пересекая ландшафт, образованный символами безмолвия – тьмой, завесами, синим отсветом лампы у моего локтя.
Наконец я встал и на цыпочках выбрался в коридор.
— Надеюсь, – сказала сестра, – вы не разбудили его? Это хорошо, что он спит.
— А скажите, – спросил я,– доктор Старов когда приедет?
— Какой доктор? – сказала она. – Ах, русский доктор. Non, c'est le docteur Guinet qui le soigne[61]. Он будет здесь завтра утром.
— Понимаете, – сказал я. – Я хотел бы провести ночь где-нибудь здесь. Как вы полагаете, нельзя ли...
— Вы можете повидать доктора Гине прямо сейчас, – продолжала она тихим, приятным голосом. – Он живет по соседству. Так вы его брат, да? А завтра приедет из Англии его мать, n'est-ce pas[62]?
— Ах нет, – сказал я, – его мать умерла много лет назад. А скажите, как он в дневное время, разговаривает? Он сильно мучается?
Она нахмурилась и странно на меня посмотрела.
— Но... – сказала она, – я не понимаю... Пожалуйста, назовите вашу фамилию.
— Ну, правильно, – сказал я, – я ведь не объяснил. Вообще-то мы с ним братья лишь по отцу. Моя фамилия [и я назвал мою фамилию].
— Oh-la-la! – воскликнула она, заливаясь сильным румянцем. – Mon Dieu![63] Но русский господин умер вчера, а вы навещали мосье Кеган...
Так что я все же не повидал Себастьяна, вернее, не увидел его живым. Но немногие минуты, которые я провел, прислушиваясь к тому, что принимал за его дыхание, изменили мою жизнь в такой полноте, в какой она изменилась бы, поговори со мной Себастьян перед смертью. Какова бы ни была его тайна, я тоже узнал одну, именно: что душа – это лишь форма бытия, а не устойчивое состояние, что любая душа может стать твоей, если ты уловишь ее извивы и последуешь им. И может быть, потусторонность и состоит в способности сознательно жить в любой облюбованной тобою душе – в любом количестве душ, – и ни одна из них не сознает своего переменяемого бремени. Стало быть – я Себастьян Найт. Я ощущаю себя исполнителем его роли на освещенной сцене, куда выходят, откуда сходят люди, которых он знал, – смутные фигуры немногих его друзей: ученого, поэта, художника, – плавно и бесшумно приносят они свои дани; вон Гудмен, плоскостопый буффон с манишкой, торчащей из-под жилета; а там бледно сияет склоненная головка Клэр, пока ее, плачущую, уводит участливая подруга. Они обращаются вокруг Себастьяна, – вокруг меня, играющего Себастьяна, – и старый фокусник ждет в кулисе с припрятанным кроликом; и Нина сидит на столе в самом ярком углу сцены, с бокалом фуксиновой жижицы, под нарисованной пальмой. А потом маскарад подходит к концу. Маленький лысый суфлер закрывает книгу, медленно вянет свет. Конец, конец. Все они возвращаются в их повседневную жизнь (и Kлэр уходит в свою могилу), – но герой остается, ибо, как я ни силюсь, я не могу выйти из роли: маска Себастьяна пристала к лицу, сходства уже не смыть. Я – Себастьян, или Себастьян – это я, или, может быть, оба мы – кто-то другой, кого ни один из нас не знает.