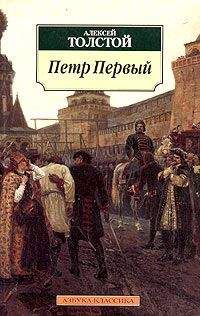— Верка, — позвала она тихо, низко, — про Ваньку Бутурлина не забудь напомнить, когда буду в лавре…
По руке скользнули холодные Веркины губы. В серых сумерках стала чудиться голая спина Ваньки, скручены посиневшие руки, мелькнуло» лезвие, вздулись и опали у него лопатки, на месте головы пузырь кровавый… Не невежничай!.. Софья сдержанно передохнула.
Послом из Троицы едет Троекуров. Две недели назад его же она посылала из Кремля к Петру, — вернулся, ни о чем не договорившись. Софья тогда же в сердцах не допустила его к руке. Оскорбился или струсил? Боярин ума гораздо среднего, только что страшен видом. Софья спустила с постели полные ноги, одернула подол над бархатными башмаками.
— Верка, подай ларец…
Верка поставила на перину окованный ларец, к углу его прилепила восковую свечечку, долго, — так что Софьины плечи опять сотряслись досадой, — чиркала огнивом… Завонял трут, зажгла бумажку, зажгла свечу, и над огоньком склонилась Софья, обирая со щеки падающие волосы. Перечитывала грамоту больного брата, царя Ивана, — писал он Петру, чтоб помирились, не надо-де больше крови, умолял патриарха о милосердной помощи: подвинуть к любви ожесточенные сердца Петра и Софьи.
Читая, усмехнулась недобро. Но, все равно, — придется пройти и через это унижение. Лишь бы выманить волчонка из Троицы… Задумалась она так крепко, что не слышала, как въехали в ворота. Когда в сенях густой голос Троекурова спросил о ней, Софья схватила с кровати черный плат, накинула на голову и встретила князя стоя. Он, влезши боком в узкую дверь, поклонился — пальцами до полу, выпрямился — медный лицом, высокий до потолка, глаза в тени, только большой нос блестел от огонька свечечки… Софья спросила о здоровье царя и царицы. Троекуров прогудел, что, слава богу, все здоровы. Провел по бороде, скребанул подбородок и так и не спросил о Софьином здоровье. Поняв, она похолодела. И надо бы ей сесть, не унижаться еще дальше, и не села. Сказала:
— Ночевать хочу в лавре, здесь мне голодно, неприютно. — И все силилась проглянуть сквозь тени в его глаза. Гордость ее стонала от того, что ведь вот — боится она, правительница, этого дурака в трех шубах, и от бабьего, забытого страха голова уходит в плечи. Троекуров проговорил:
— Без охраны, без войска напрасно к нам затеяла ехать, царевна… Дороги опасны…
— Не мне бояться: войск у меня поболее, чем у вас…
— Да что в них толку-то…
— Оттого и еду без охраны, — не хочу крови, хочу мира…
— Про какую, царевна, кровь говоришь, крови не будет… Разве вор, бунтовщик Федька Шакловитый с товарищи крови-то все еще жаждут, так мы их и разыщем за это…
— Ты зачем приехал? — сдавленно крикнула Софья… (Он потянул из кармана свиток с красной на шнуре печатью.) — Указ привез? Верка, возьми указ у боярина… А мой указ будет такой: вели лошадей впрячь, ночевать хочу в лавре…
Отстранив Веркину руку, Троекуров развернул свиток и не спеша, торжественно стал выговаривать:
— Указом царя и великого князя всея Великие и Малые и Белые России самодержца велено тебе, не мешкав, вернуться в Москву и там ждать его государевой воли, как он, государь, насчет тебя скажет…
— Пес! — Софья выхватила у него свиток, смяла, швырнула… Черный плат упал с ее головы. — Вернусь со всеми полками, твоя голова первая полетит…
Троекуров, кряхтя, нагнулся, поднял указ и, будто Софья и не бесновалась перед ним, окончил сурово:
— А буди настаивать станешь, рваться в лавру, — велено поступить с тобой нечестно… Так-то!..
Софья подняла руки, ногтями впилась в затылок и с размаху упала на постель. Троекуров осторожно положил указ на край лавки, опять поскреб в бороде, думая, — как же ему, послу, в сем случае поступить: кланяться или не кланяться? Покосился на Софью, — лежала ничком, как у мертвой торчали из-под юбки ноги в бархатных башмаках. Медленно надел шапку и вытиснулся в дверь, без поклона.
«…А что ты мешкаешь в таком великом деле, то нет того хуже…»
Письмо дрожало в руке Василия Васильевича. Придвинув свечу, он всматривался в наспех нацарапанные слова. Снова и снова их перечитывал, силясь уразуметь, собрать мысли свои. Двоюродный брат, Борис, писал: «Полковник Гордон привел к Троице Бутырский полк и был допущен к руке, Петр Алексеевич его обнял и целовал многократно со слезами, и Гордон клялся служить ему до смерти… С ним же прибыли иноземные офицеры и драгуны и рейтары… Кто же остался у вас? Небольшая часть стрельцов, коим лавки свои да промыслы, да торговые бани покидать неохота… Князь Василий, еще не поздно, спасти тебя могу, — завтра будет поздно… Федьку Шакловитого завтра будем ломать на дыбе…»
Борис писал правду. С того дня, как Софью не пустили в лавру, ничем нельзя было остановить бегства из Москвы ратных и служилых людей. Бояре уезжали средь бела дня, нагло. Неподкупный и суровый воин. Гордон пришел к Василию Васильевичу и показал указ Петра явиться к Троице…
— Голова моя седа, и тело покрыто ранами, — сказал Гордон и глядел, насулясь, собрав морщинами бритые щеки, — я клялся на библии, и я верно служил Алексею Михайловичу, и Федору Алексеевичу, и Софье Алексеевне. Теперь ухожу к Петру Алексеевичу. — Держа руки в кожаных перчатках на рукояти длинной шпаги, он ударил ею в пол перед собой. — Не хочу, чтоб голова моя отлетела на плахе…
Василий Васильевич не противоречил, — бесполезно: Гордон понял, что в споре между Петром и Софьей Софья проспорила. И он ушел в тот же день с развернутыми знаменами и барабанным боем. Это был последний и сильнейший удар. Василий Васильевич уже много дней жил, будто окованный тяжелым сном: видел тщетные усилия Софьи и не мог ни помочь ей, ни оставить ее. Страшился бесславия и чувствовал, что оно близко и неминуемо, как могила. Властью сберегателя престола и большого воеводы он мог бы призвать не менее двадцати полков и выйти к Троице — разговаривать с Петром… Но брало сомнение, — а вдруг вместо послушания в полках закричат: «Вор, бунтовщик?..» Сомневаясь, — бездействовал, избегал оставаться с Софьей с глазу на глаз и для того сказывался больным. С верным человеком тайно пересылал в Троицу брату Борису письма по-латыни, где просил не начинать военных действий против Москвы, излагал различные способы примирить Софью с Петром и возвеличивал свои заслуги и страдания на царской службе. Все было напрасно. Именно как во сне кто-то, будто видимый и непроглядный, наваливался на него, душа стонала и ужасалась, но ни единым членом пошевелить он был не в силах.
На огонек сгоревшей наполовину восковой свечи налетела муха; упав — закрутилась. Василий Васильевич положил локти на стол, обхватил голову…
Вчера ночью он приказал сыну Алексею и жене Авдотье (жившей давно уже в забросе и забвении) выехать, не мешкая, в подмосковное имение Медведково. Дом опустел. Ставни и крыльца были заколочены. Но сам он медлил. Был день, когда казалось — счастье повернется. Софья, приехав из-под Троицы, рук не умыла, куска не проглотила, — приказала послать бирючей и горланов кликать в Кремль стрельцов, гостиные и суконные сотни, посадских и всех добрых людей. Вывела на Красное крыльцо царя Ивана, — он стоять не мог, присел около столба, жалостно улыбаясь (видно уже, что не жилец). Сама, в черном платке на плечах, с неприбранными волосами, — как была с дороги, — стала говорить народу:
— Нам мир и любовь дороже всего… Грамот наших в Троице не читают, послов выбивают прочь… И вот, помолясь, села я на лошадок да поехала сама — с братцем Петром переговорить любовью… До Воздвиженского только меня и допустили… И там срамили меня и бесчестили, называли девкой, будто я не царская дочь, — не чаю, как жива вернулась… За сутки вот столечко от просфоры только и съела… В селах окрест все пограблено по указам Льва Нарышкина да Бориса Голицына… Они братца Петра опоили… По все дни пьяный в чулане спит… Хотят они идти на Москву с боем, князю Василию голову отрубить. Житье наше становится короткое… Скажите, — мы вам ненадобны, то пойдем с братцем Иваном куда-нибудь подалее искать себе кельи…
Из глаз ее брызнули слезы… Не могла говорить, взяла крест с мощами, подняла над головой. Народ глядел на крест, на то, как царевна громко плакала, как зажмурился, поникнул царь Иван… Поснимали шапки, многие вздыхали, вытирали глаза… Когда царевна спросила: «Не уйдете ли вы к Троице, можно ли на вас надеяться?» — закричали: «Можно, можно… Не выдадим…»
Разошлись. Вспоминая, что говорила царевна, крутили носами. Конечно, в обиду бы давать не следовало, но — как не дашь? Хлеба на Москве, стало мало, — обозы сворачивают в Троицу, в городе разбои, порядка нет. На базарах — не до торговли. Все дело стоит, — смута. Надоело. Пора кончать. А что Василий, что Борис Голицын — одна от них радость…
Сегодня тысяч десять народу ввалились в Кремль, махали списками с Петровой грамоты, где было сказано, чтобы схватить смутьяна и вора Федьку Шакловитого с товарищами и в цепях везти в лавру. «Выдайте нам Федьку!» — кричали и лезли к окнам и на Красное крыльцо, совсем как много лет назад. «Выдайте Микитку Гладкого, Кузьму Чермного, Оброську Петрова, попа Селиверстку Медведева!»… Стража побросала оружие, разбежалась. Челядь, дворцовые бабы и девки, шуты и карлы попрятались под лестницы и в подвалы.