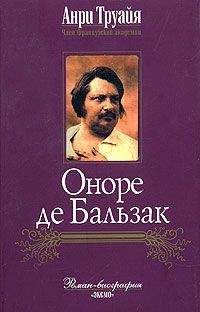В город были введены войска: Лотарингцы приняли такие меры, которые не оставляли сомнения в том, как мало свободы действий герцог и кардинал собирались предоставить Генеральным штатам. Депутаты Генеральных штатов, прибывшие в город, селились в самых жалких лачугах и платили за них втридорога. Поэтому придворные и городская стража, знать и горожане — все ждали какого-нибудь большого события, и ожидания их оправдались, едва только прибыли принцы крови. Когда оба принца появились в покоях короля, кардинал Лотарингский на глазах у всего двора повел себя вызывающе: заявляя во всеуслышание о своих притязаниях, кардинал не потрудился даже снять шапки, в то время как король Наваррский стоял перед ним с непокрытой головой. В эту минуту Екатерина Медичи опустила глаза, чтобы негодование ее не было замечено. Произошло крупное объяснение между юным королем и обоими представителями младшей ветви королевского рода; оно было коротким, ибо после первых же приветствий принца Конде Франциск II произнес страшные слова:
— Мои кузены, я думал, что с амбуазским делом покончено; оказывается, нет, и нам приходится сожалеть о нашей снисходительности.
— Это не ваши слова, а слова Гизов, — ответил принц Конде.
— Прощайте, принц, — оборвал его молодой король, покрасневший от гнева.
В большом зале два капитана королевской гвардии преградили принцу дорогу. Как только к нему приблизился капитан французской гвардии, Конде вынул из кармана письмо и сказал так, чтобы его слышал весь двор:
— Может быть, вы прочтете вслух то, что здесь написано, господин де Майе-Брезе?
— Охотно, — ответил капитан.
«Кузен мой, приезжайте совершенно спокойно, я даю вам мое слово короля, что вас здесь никто не тронет. Если вам нужен пропуск, подтверждающий это, вот он».
— А подпись есть? — спросил язвительный и бесстрашный горбун.
— Подписано: «Франциск», — сказал Майе.
— Нет, не так, — возразил принц. — Подписано: «Любящий вас кузен и друг Франциск»! Господа, — крикнул он шотландской гвардии, — я последую за вами в тюрьму, куда приказал меня заключить король. В этом зале достаточно людей знатных, чтобы все это понять!
Воцарившееся в зале глубокое молчание должно было образумить Гизов, но правители меньше всего прислушиваются к молчанию.
— Ваше высочество, — сказал кардинал Турнонский, который после казней в Амбуазе всюду сопровождал принца, — в Лионе, в Мувансе, в Дофине вы поднимали восстание против короля. Король ничего об этом не знал, когда писал вам это письмо.
— Какие плуты! — вскричал горбун и расхохотался.
— Вы во всеуслышание заявили, что вы против мессы и за еретиков...
— Мы можем делать у себя в Наварре все, что хотим, — сказал принц.
— Вы хотите сказать в Беарне? Но вы должны уважать его королевское величество, — ответил ему президент парламента де Ту.
— Ах, так вы здесь, господин президент! — воскликнул принц, и лицо его приняло ироническое выражение. — Вы что, здесь вместе со всем парламентом?
Сказав это, принц бросил на кардинала исполненный презрения взгляд и покинул зал; он понял, что жизнь его в опасности. Когда на следующий день г-да де Ту, де Виоль, д'Эспесс, генеральный прокурор Бурден и секретарь суда дю Тилле вошли к нему в камеру, он разговаривал с ними стоя и выразил сожаление по поводу того, что они взялись за дело, которое их не касается. Потом он сказал секретарю:
— Пишите!
И продиктовал ему:
«Я, Луи Бурбон, принц Конде, пэр королевства, маркиз Конти, граф Суассонский, французский принц крови, решительно заявляю, что не признаю никакой комиссии, назначенной, чтобы меня судить, ибо существуют привилегии, распространяющиеся на всякого члена королевской семьи, в силу которых допрашивать и судить меня может только парламент при участии всех пэров, всех палат и самого короля в качестве председателя».
— Вы должны это знать лучше других, господа. Вот все, что я имею вам сообщить. В остальном я полагаюсь на свои права и на господа бога.
Однако, невзирая на упорное молчание принца, судьи приступили к делу. Король Наваррский находился на свободе, но за ним следили. Его положение отличалось от положения его брата только тем, что тюрьма его оказалась просторнее. И он и принц Конде должны были сложить головы в один день.
Приказ кардинала и верховного главнокомандующего требовал содержать Кристофа в тюрьме в строгой тайне, чтобы судьи получили доказательства виновности принца. Письма, обнаруженные у Ла Саня, секретаря принца, понятные для государственных деятелей, были не очень ясны для судей. Кардинал задумал неожиданно свести принца с Кристофом. С этой-то целью он и поместил последнего в нижнюю камеру башни Сент-Эньян, окно которой выходило на тюремный двор. Кристоф неизменно и последовательно все отрицал, и в силу этого дело его затянулось до самого открытия Генеральных штатов.
Лекамю, которого горожане Парижа действительно избрали депутатом от третьего сословия, прибыл в Орлеан через несколько дней после ареста принца. Новость эта, которую ему сообщили в Этампе, удвоила его беспокойство, ибо он был единственным человеком, знавшим о свидании своего сына с принцем на Мосту Менял, и догадывался, что участь Кристофа неразрывно связана с участью бесстрашного вождя реформатов. Поэтому он решил приглядеться поближе к тем скрытым силам, которые, враждуя друг с другом, действовали при дворе с момента открытия Штатов, дабы найти какой-нибудь способ спасти сына. О королеве Екатерине нечего было и думать: она ведь не захотела даже видеть своего меховщика. Ни один из придворных, которых он встречал, не мог ему сообщить ничего определенного о Кристофе, и старик дошел до такого отчаяния, что подумывал уже о том, чтобы обратиться к самому кардиналу, когда он вдруг узнал, что г-н де Ту запятнал свое имя, дав согласие быть одним из судей принца Конде. Синдик отправился к бывшему покровителю своего сына и узнал от него, что Кристоф еще жив, но находится в тюрьме.
Перчаточник Турильон, к которому Ла Реноди направил Кристофа, предложил сьёру Лекамю комнату у себя в доме на все время, пока будут заседать Штаты. Турильон считал, что меховщик, так же как и он сам, втайне придерживается религии реформатов. Но очень скоро он убедился, что отец, который боится потерять сына, уже не умеет различать оттенков религии: забыв обо всем на свете, он бросается в объятия бога и не задумывается над тем, в какие одеяния люди его облекают. Старик, все старания которого ни к чему не привели, как потерянный, бродил по улицам. Вопреки его ожиданиям, деньги ему нисколько не помогли. Г-н де Ту предупредил его, что при малейшей попытке подкупить кого-либо из ставленников Гизов он сразу же попадется, ибо герцог и кардинал зорко следят за всем, что касается Кристофа. Этот судья, чья слава несколько омрачается ролью, которую он тогда играл, попытался вселить в старика какую-то надежду. Но сам он был в такой тревоге за своего крестного сына, что все его утешения только еще больше напугали меховщика. Старик бесцельно бродил вокруг дома. За три месяца он совсем осунулся. Последней его надеждой были узы дружбы, издавна соединявшие его с Гиппократом XVI века. Однажды, выходя от короля, Амбруаз действительно попытался поговорить с королевой Марией. Но стоило ему только упомянуть имя Кристофа, как дочь Стюартов, которая предавалась мрачным мыслям о том, что случится с ней, если король погибнет, считая, что внезапная болезнь его вызвана попыткой реформатов его отравить, ответила:
— Если бы мои дяди слушались меня, этого фанатика давно бы повесили!
Вечером того дня, когда Паре сообщил этот ответ своему другу Лекамю на площади Этап, старик вернулся к себе, еле держась на ногах от горя; от ужина он отказался.
Турильон встревожился, поднялся наверх в комнату старика и застал своего постояльца в слезах. А так как набухшие края век на его старческом лице были изборождены морщинами и покраснели от слез, его хозяину показалось, что он плачет кровью.
— Успокойтесь, отец мой, — сказал реформат, — жители Орлеана возмущены тем, что солдаты господина де Сипьера охраняют наш город и ведут себя в нем как завоеватели. Знайте, что если только жизнь принца Конде будет в опасности, мы сейчас же разрушим башню Сент-Эньян; все население стоит за реформатов, и в городе вспыхнет восстание. Будьте в этом уверены!
— Пусть даже Лотарингцев повесят. Вернет ли мне их смерть моего сына? — спросил обезумевший от горя отец.
В эту минуту внизу кто-то тихонько постучал в дверь. Турильон спустился, чтобы открыть. Была уже ночь. В это тревожное время каждый владелец дома старался быть очень осторожным. Турильон посмотрел в маленькое решетчатое окошечко входной двери и увидел неизвестного ему человека, одетого во все черное. По акценту можно было определить, что это итальянец. Незнакомец сказал, что ему нужно переговорить с Лекамю по торговым делам. Турильон открыл дверь. Увидев вошедшего, Лекамю весь задрожал. Но незнакомец успел приложить палец к губам. Лекамю понял этот жест и сказал: