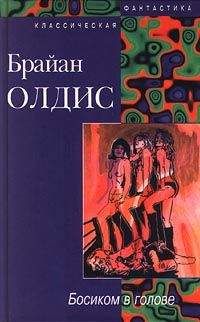— Они и киотку хотели было взять, все доискивались — точно ли она барышнина приданая была? — донесла Афимьюшка.
— Что ж? и пусть бы брал. А что, Афимьюшка, бабушка долго перед смертью мучилась?
— Не то чтобы очень, всего с небольшим сутки лежали. Так, словно сами собой извелись. Ни больны настоящим манером не были, ничто! Ничего почесть и не говорили, только про вас с сестрицей раза с два помянули.
— Образа-то, стало быть, Порфирий Владимирыч увез?
— Он увез. Собственные, говорит, маменькины образа. И тарантас к себе увез, и двух коров. Все, стало быть, из барыниных бумаг усмотрел, что не ваши были, а бабенькины. Лошадь тоже одну оттягать хотел, да Федулыч не отдал: наша, говорит, эта лошадь, старинная погорелковская, — ну, оставил, побоялся.
Походила Аннинька и по двору, заглянула в службы, на гумно, на скотный двор. Там, среди навозной топи, стоял «оборотный капитал»: штук двадцать тощих коров да три лошади. Велела принести хлеба, сказав при этом: я заплачу! — и каждой корове дала по кусочку. Потом скотница попросила барышню в избу, где был поставлен на столе горшок с молоком, а в углу у печки, за низенькой перегородкой из досок, ютился новорожденный теленок. Аннинька поела молочка, побежала к теленочку, сгоряча поцеловала его в морду, но сейчас же брезгливо вытерла губы, говоря, что морда у теленка противная, вся в каких-то слюнях. Наконец вынула из портмоне три желтеньких бумажки, раздала старым слугам и стала сбираться.
— Что ж вы будете делать? — спросила она, усаживаясь в кибитку, старика Федулыча, который в качестве старосты следовал за барышней с скрещенными на груди руками.
— А что нам делать! жить будем! — просто ответил Федулыч.
Анниньке опять взгрустнулось: ей показалось, что слова Федулыча звучат иронией. Она постояла-постояла на месте, вздохнула и сказала:
— Ну, прощайте!
— А мы было думали, что вы к нам вернетесь! с нами поживете! — молвил Федулыч.
— Нет уж… что! Все равно… Живите!
И опять слезы полились у нее из глаз, и все при этом тоже заплакали. Как-то странно это выходило: вот и ничего, казалось, ей не жаль, даже помянуть нечем — а она плачет. Да и они: ничего не было сказано выходящего из ряда будничных вопросов и ответов, а всем сделалось тяжело, «жалко». Посадили ее в кибитку, укутали и все разом глубоко вздохнули.
— Счастливо! — раздалось за ней, когда повозка тронулась.
Ехавши мимо погоста, она вновь велела остановиться и одна, без причта, пошла по расчищенной дороге к могиле. Уже порядком стемнело, и в домах церковников засветились огни. Она стояла, ухватившись одной рукой за надгробный крест, но не плакала, а только пошатывалась. Ничего особенного она не думала, никакой определенной мысли не могла формулировать, а горько ей было, всем существом горько. И не над бабушкой, а над самой собой горько. Бессознательно пошатываясь и наклоняясь, она простояла тут с четверть часа, и вдруг ей представилась Любинька, которая, быть может, в эту самую минуту соловьем разливается в каком-нибудь Кременчуге, среди развеселой компании…
Ah! ah! que j'aime, que j'aime!
Que j'aime les mili-mili-mili-taires!
Она чуть не упала. Бегом добежала до повозки, села и велела как можно скорее ехать в Головлево.
***
Аннинька воротилась к дяде скучная, тихая. Впрочем, это не мешало ей чувствовать себя несколько голодною (дяденька, впопыхах, даже курочки с ней не отпустил), и она была очень рада, что стол для чая был уж накрыт. Разумеется, Порфирий Владимирыч не замедлил вступить в разговор.
— Ну что, побывала?
— Побывала.
— И на могилке помолилась? панихидку отслужила?
— Да, и панихидку.
— Священник-то, стало быть, дома был?
— Конечно, был; кто же бы панихиду служил!
— Да, да… И дьячки оба были? вечную память пропели?
— Пропели.
— Да. Вечная память! вечная память покойнице! Печная старушка, родственная была!
Иудушка встал со стула, обратился лицом к образам и помолился.
— Ну, а в Погорелке как застала? благополучно?
— Право, не знаю. Кажется, все на своем месте стоит.
— То-то «кажется»! Нам всегда «кажется», а посмотришь да поглядишь — и тут кривенько, и там гниленько… Вот так-то мы и об чужих состояниях понятие себе составляем: «кажется»! все «кажется»! А впрочем, хорошенькая у вас усадьбица; преудобно вас покойница маменька устроила, немало даже из собственных средств на усадьбу употребила… Ну, да ведь сиротам не грех и помочь!
Слушая эти похвалы, Аннинька не выдержала, чтоб не подразнить сердобольного дяденьку.
— А вы зачем, дядя, из Погорелки двух коров увели? — спросила она.
— Коров? каких это коров? Это Чернавку да Приведенку, что ли? Так ведь они, мой друг, маменькины были!
— А вы — ее законный наследник? Ну что ж! и владейте! Хотите, я вам еще теленочка велю прислать?
— Вот-вот-вот! ты уж и раскипятилась! А ты дело говори. Как, по-твоему, чьи коровы были?
— А я почем знаю! в Погорелке стояли!
— А я знаю, у меня доказательства есть, что коровы маменькины. Собственный ее руки я реестр отыскал, там именно сказано: «мои».
— Ну, оставим. Не стоит об этом говорить.
— Вот лошадь в Погорелке есть, лысенькая такая — ну, об этой верного сказать не могу. Кажется, будто бы маменькина лошадь, а впрочем — не знаю! А чего не знаю, об том и говорить не могу!
— Оставим это, дядя.
— Нет, зачем оставлять! Я, брат, — прямик, я всякое дело начистоту вести люблю! Да отчего и не поговорить! Своего всякому жалко: и мне жалко, и тебе жалко — ну и поговорим! А коли говорить будем, так скажу тебе прямо: мне чужого не надобно, но и своего я не отдам. Потому что хоть вы мне и не чужие, а все-таки.
— И образа даже взяли! — опять не воздержалась Аннинька.
— И образа взял, и все взял, что мне, как законному наследнику, принадлежит.
— Теперь киот-то весь словно в дырах…
— Что ж делать! И перед таким помолись! Богу ведь не киот, а молитва твоя нужна! Коли ты искренно приступаешь, так и перед плохенькими образами молитва твоя дойдет! А коли ты только так: болты-болты! да по сторонам поглядеть, да книксен сделать — так и хорошие образа тебя не спасут!
Тем не менее Иудушка встал и возблагодарил бога за то, что у него «хорошие» образа.
— А ежели не нравится старый киот — новый вели сделать. Или другие образа на место вынутых поставь. Прежние — маменька-покойница наживала да устроивала, а новые — ты уж сама наживи!
Порфирий Владимирович даже хихикнул: так это рассуждение казалось ему резонно и просто.
— Скажите, пожалуйста, что же мне теперь делать предстоит? — спросила Аннинька.
— А вот, погоди. Сначала отдохни, да понежься, да поспи. Побеседуем да посудим, и там посмотрим, и этак прикинем — может быть, вдвоем что-нибудь и выдумаем!
— Мы совершеннолетние, кажется?
— Да-с, совершеннолетние-с. Можете сами и действиями своими, и имением управлять!
— Слава богу, хоть это!
— Честь имеем поздравить-с!
Порфирий Владимирыч встал и полез целоваться.
— Ах, дядя, какой вы странный! все целуетесь!
— Отчего же и не поцеловаться! Не чужая ты мне — племяннушка! Я, мой друг, по-родственному! Я для родных всегда готов! Будь хоть троюродный, хоть четвероюродный, — я всегда…
— Вы лучше скажите, что мне делать? в город, что ли, надобно ехать? хлопотать?
— И в город поедем, и похлопочем — все в свое время сделаем. А прежде — отдохни, поживи! Слава богу! не в трактире, а у родного дяди живешь! И поесть, и чайку попить, и вареньицем полакомиться — всего вдоволь есть! А ежели кушанье какое не понравится — другого спроси! Спрашивай, требуй! Щец не захочется — супцу подать вели! Котлеточек, уточки, поросеночка… Евпраксеюшку за бока бери!.. А кстати, Евпраксеюшка! вот я поросеночком-то похвастался, а хорошенько и сам не знаю, есть ли у нас?
Евпраксеюшка, державшая в это время перед ртом блюдечко с горячим чаем, утвердительно повела носом воздух.
— Ну, вот видишь! и поросеночек есть! Всего, значит, чего душенька захочет, того и проси! Так-то!
Иудушка опять потянулся к Анниньке и по-родственному похлопал ее рукой по коленке, причем, конечно, невзначай, слегка позамешкался, так что сиротка инстинктивно отодвинулась.
— Но ведь мне ехать надо, — сказала она.
— Об том-то я и говорю. Потолкуем да поговорим, а потом и поедем. Благословясь да богу помолясь, а не так как-нибудь, прыг да шмыг! Поспешишь — людей насмешишь! Спешат-то на пожар, а у нас, слава богу, не горит! Вот Любиньке — той на ярмарку спешить надо, а тебе что! Да вот я тебя еще что спрошу: ты в Погорелке, что ли, жить будешь?
— Нет, в Погорелке мне незачем.
— И я тоже хотел тебе сказать. Поселись-ко у меня. Будем жить да поживать — еще как заживем-то!
Говоря это, Иудушка глядел на Анниньку такими маслеными глазами, что ей сделалось неловко.
— Нет, дядя, я не поселюсь у вас. Скучно.