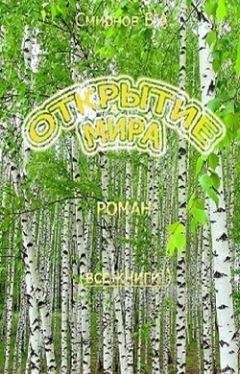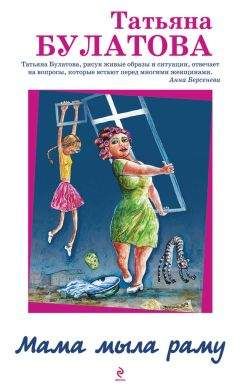— Мы вернем вам задаток-с! Получим с добропорядочных покупателей и вернем. Сполна-с! — подал впервые уверенный голосок приказчик-управляло.
— Новые добропорядочные покупатели не отказываются платить, — спокойно-решительно ответил председатель Совета. — Только не гражданину Крылову, а настоящему хозяину… на революцию. Соберем деньги до копеечки, по нашей, Совета, цене и переведем по почте во дворец Кшесинской, в финансовый отдел ЦК партии РСДРП большевиков. Я правильно понимаю вас, товарищи-граждане?
— Именно, Родион Семеныч, без ошибочки правильно. На революцию!
Дядя Родя обращался теперь не только к депутатам, но открыто, ко всем мужикам и бабам. И они отвечали ему согласными кивками и одобрительными возгласами:
— Верно!
— А как же иначе?
Теперь знакомая ребятне сила Яшкиного отца была не только в нем самом, но и в том, что за ним стояли депутаты и весь народ на луговине.
Тут уж была не стена, а что-то побольше — целая крепость.
— В хорошие руки попадут денежки, и слава богу! — толковал народ.
— М-м да-с! Напрасно. У Ленина два миллиона золотом в банке, на счету. Только что получены… из Г ермании.
— Постыдитесь! — возмущенно крикнул Григорий Евгеньевич. — Повторяете буржуазную клевету из «Биржевки»!
Яшка с Шуркой и Катькой и Володька Горев, свалившийся на лужайку, рядышком, точно с неба, в один тонкий голосок, перехваченный волнением и обидой, закричали:
— Постыдитесь! Постыдитесь!
Народ одобрительно посмотрел на ребят, на учителя, зашумел:
— Зачем обижать человека? Мы Ленина знаем, наш, свойский товарищ. Горой за народ стоит… Какое золото? Буржуйское вранье!
Может, шум долго бы не затих, да тут в бабьем разноцветном палисаде точно калитка распахнулась: прямо на Крылова неожиданно выскочили снохи-солдатки Василия Апостола.
— Деньги — тебе? Земля — тебе?.. А нам — что?
— Молока ребятам, вот что! Приехали из Питера — капли нельзя трогать… В навоз молоко лей, ребятам не бери…
— Жалованье, паек прибавить! Стараемся на тебя от зари до зари… Хватит!
У Крылова черная широкополая шляпа слезла со лба. Должно, такого он еще не слыхивал.
Да и один ли он? Временная уездная власть и новый управляло-приказчик подпрыгнули на скамье. Магазинщик-продавец стащил с носа темные очки и разинул рот. А комиссар Временного правительства принялся лепетать что-то очень тревожное, решительно не похожее на очередную речь.
— Братцы, — завопил он не своим, каким-то тепленьким, испуганно-добрым голосишком. — Не узнаю, не узнаю… Да вас точно подменили сегодня эти… м-м-м… науськивающие господа, так называемые большевики. Поверьте мне, никакие они не большевики, если разобраться по существу понятия. Одно прозвище, совершенно неправильное, неприличное. На самом деле все наоборот: меньшинство! Подавляющая часть здравомыслящего населения России — подлинное согласное большинство… Вот кто настоящие большевики. По существу, по грамматике, если угодно. Мы — большинство! Мы — большевики! Мы! — рычал, мычал инспектор, надуваясь, багровея и синея ушами и щеками.
Встрепенулось за столом, как на нашесте, распетушье. Драчливым гребнем поднялась соломка под чернявыми растрепанными кудряшками.
— Да! Да! — подхватил, закудахтал Красовский, прихлопывая себя по бедрам, точно собираясь кукарекнуть на всю улицу. — Я докладывал почтеннейшему собг’анию, повтог’яю: если глубоко г’лзобг’аться, мы, социал-демокг’атия, действительно большевики, потому что выг’ажаем священную волю большинства населения пг’авославного нашего госудаг’ства, — скрипел аптекарь ржавой жестью.
Инспектор, слушая все это, даже, похоже, прослезился.
— Дорогие товарищи, братья по духу, по разуму, не слушайте подложных, обманных большевиков, ленинцев, слушайте доподлинных социал-демократов, например, моего соседа по скамье, Льва Михайловича, пламенного революционера-марксиста… Будем жить по-русски, по-християнски, как бог велел, станем жить вкупе и влюбе…
Ребята заметили, как усмехнулся одной широкой усмешкой парод. И они, догадливые паршивцы, единым великим разом, понимающе усмехнулись, сообразив, что к чему.
А тут еще Катькин отец опять высунулся, не побоялся, что милиционер его заметит и признает.
— Да когда же, — спросил дядя Ося громко, — кои веки мои лаптишки жили вкупе и влюбе с вашими шагреневыми сапожками, барин хороший?
Он выставил на обозрение свои берестяные, густокоричневые с блестящей чернью засохшей торфяной грязи, разъехавшиеся лаптищи. Инспектор дрыгнул, дернул ногами и спрятал под стол начищенные, с тонкой рантовой подошвой, франтоватые глухие башмаки, смахивающие на дорогие (дороже не бывают!) бабьи полусапожки, с резинкой по бокам. Такую барскую обувь даже Устин Павлыч не носил. Пожалуй, еще батюшка, отец Петр, щеголял в схожих бесценных штиблетах в пасху и в престольный праздник Тихвинской божьей матери.
Народ грохнул отрывистым, тяжелым смехом, словно бревно на землю уроиил. Понятно: смеяться долго не приходилось, уж больно разительно неподходящи были обувь временной уездной власти и обутка Катькиного отца-обормота.
И не стало больше заседания Совета совместно с представителями соседних деревень. Шло понятное и непонятное собрание как бы одного громадного, дружного села, что уже второй раз приметилось глазастой ребятне. Теперь спорили за столом. Народ на луговине слушал и помалкивал. Но молчание это почему-то беспокоило приехавших, особенно временную уездную власть, и весьма нравилось, надо быть, депутатам: народ держал их сторону, вот что означало молчание. Оказывается, не зря читали и перечитывали мужики в библиотеке-читальне «Солдатскую правду» с письмом Ленина. Съезд крестьянских Советов за ним пошел, за Лениным, не до конца, но тронулся, сделал шаг вперед. Верховоды-эсеры вынуждены были переделать свое решение — вот что узнали нынче любопытные писаря.
Из знаменитой холщовой сумки (пригодилась! пригодилась!) тут в скорости появилась на свет бумага, и Яшкин отец понятно прочитал: «… все земли, без исключения, еще до созыва Учредительного собрания, должны перейти во владение земельных комитетов с предоставлением им права определения порядка обработки, уборки, укоса».
— Что же вам еще надо? — закричал обрадованно уездный комиссар, точно он и не знал до сей поры этой важной бумаги. — Что же вам еще?
— Убрать оговорочку.
— Какую?
— А вот какую: «…данный Документ рассматривать как проект постановления, который вступит в силу после издания Временным правительством соответствующих законов», — прочитал дядя Родя, добыв из холщовой торбы новую бумажину. Шуркин батя важно спрятал ее потом обратно, строго застегнул бывалую школьную суму на пуговицу и перекинул секретарское добро снова через плечо. Он не расставался со своей котомкой ни на минуту.
Ну и торба! Располным-полна, как в песенке поется, все в ней, миленькой, есть. Не обманешь нынче мужиков, на кривой не объедешь, сперва, как говорится, подумай, потом и соври, да тебе все равно не поверят.
Отец совсем другой — решительный, горой стоит за дядю Родю и мужиков. Он вмешивается в спор с инспектором и аптекарем. Именно его нынче не объедешь на кривой.
Что же изменилось? А вот что: «Чужим не проживешь», — говорил он недавно. Не чужое, свое, наше — получается у бати сейчас. Шурка с гордостью следит за отцом.
— На что вы надеетесь? Ведь вас за сопротивление пересажают всех в тюрьму, — стращала, рычала разинутая, квадратная морда бегемота.
— Весь народ не пересажаешь, места в остроге не хватит, едрена-зелена, — отвечал за всех Митрий Сидоров, ухмыляясь. — Мы надеемся, что власть скоро будет наша — и в городе и в деревне… С Лениным в голове. Шествие-то надысь в Петрограде за кого проголосовало красными знаменами?
— Большевики придут к власти? Ха-ха-ха! — затрясся инспектор.
И аптекарь залился бархатным смешком, и Крылов угрюмо скривил губы. Шуркин батя наблюдал исподлобья и кусал ус.
— А почему бы им не прийти к власти, большевикам? — грозно спросил он.
— А потому не угодно ли вам знать, — жмурилась и поеживалась, как от щекотки, уездная временная власть, продолжая трястись животом. — А не угодно ли вам знать, на Невском проспекте плакатики повсеместно развешаны: Ленина и компанию — обратно в Германию! Хи-хи-хи!
И опять как по команде расхихикались все незваные гости. Григорий Евгеньевич сломал дорогой карандаш Фабера. Поднял голову Аладьин. Терентий Крайнов пошевелился на своем питерском пиджаке, собираясь встать, и зачем-то расстегнул ворот солнечной рубахи. А другой народ сразу и ие разобрался, о чем смех и хихиканье, переглядывался.
— Мразь вы эдакая… погань вонючая! В харю бы вам дать — марать рук неохота! — с презрением сказал Никита Аладьин. Он плюнул и угодил на рантовый сапожок.