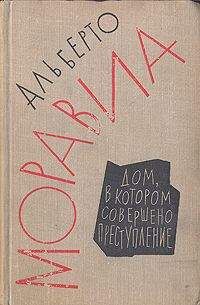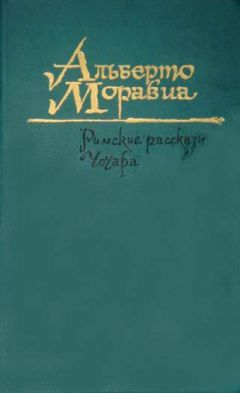А вот это уже вранье. В один прекрасный день я сам, желая угодить Маурицио, предложил Протти в качестве прообраза капиталиста. На это Маурицио весьма рассудительно заметил, что мы не должны восстанавливать его против себя, иначе — прощай, фильм. Однако теперь отступать поздно: подлостью больше, подлостью меньше — все одно. Без особого огорчения Протти качает головой и произносит: — Если все действительно так, как ты говоришь, что ж, мне очень жаль, Рико, но твоему сценарию я предпочитаю сценарий Маурицио.
Катастрофа! Даже в тридцати сребрениках — и в тех отказано Иуде! Я отлучен самим Протти, которого предательски уповал привлечь на свою сторону! Бледнею и смущенно бормочу: — Но это же явно антибуржуазный, антикапиталистический сценарий, пронизанный духом разрушения.
— Именно этого мы и хотим, — кивает утвердительно Протти. — Мы, продюсеры. Нечто яростное, разрушительное, как ты выразился. Извини, Рико, твой сценарий будет гораздо правдоподобнее, не спорю, но вместе с тем из него получится сентиментальный, жеманный, сюсюкающий фильм, который не принесет ни лиры дохода! — Значит, ты готов финансировать контестацию и выступаешь за разрушение? — вырывается у меня. — Буржуа платит тому, кто собирается его укокошить. Капиталист подбадривает заговорщика против капитализма. Железная логика. Ничего не скажешь! Впрочем, существует же логика классового самоубийства, не забывай об этом.
Протти по-отечески, всепрощающе мотает головой.
— Давай для начала не будем швыряться такими словечками, как разрушение, классовое самоубийство и прочее. Речь идет о безусых юнцах, которые развлекаются, как могут. Мы, например, в их годы думали только о бабах. Они сменили баб на политику. И потом, коль скоро ты заговорил об интересах капитала, я как капиталист скажу тебе: капитализм как раз заинтересован в том, чтобы всякие там смутьяны и бунтовщики осуществляли свои экспроприации не наяву, а в кино. И чем беспощаднее, тем лучше. С одной стороны, из этих удальцов выходит лишний пар, да так, что ни с чьей головы и волос не упадет. С другой — срывается солидный куш, потому что фильмы насилия или разрушения, по крайней мере сегодня, приносят порядочную прибыль. Что же до меня как прообраза жестокого и циничного капиталиста — ничего страшного, переживу как-нибудь: в конце концов это соответствует истине. Может, я не настолько циничен, но то, что я капиталист и буржуа, — это точно.
Протти уходит от меня, просачивается сквозь пальцы, ускользает, словно рыба, сорвавшаяся с крючка, едва заглотав наживку. Наклоняюсь и взволнованно шепчу: — Ты пойми, важно, каким получится фильм: плохим или хорошим. В том виде, в каком его видит Маурицио, это плохой фильм. Плохой, потому что фальшивый. Такой контестации, какой она представляется Маурицио и его друзьям, не существует. Это фальсификация действительности. Что может выйти хорошего из фальшивки? — Итальянские вестерны тоже насквозь фальшивы, и тем не менее… — с улыбкой отвечает Протти и встает. Тогда встаю и я, в отчаянии преграждая ему путь: — Поверь мне, умоляю, ради всего святого, ты должен поверить. Я, можно сказать, прирожденный режиссер. И не стал бы затевать всю эту историю, если бы что было не так и если бы годами не испытывал на себе самую жестокую несправедливость.
— Какая еще несправедливость? В денежном отношении у тебя все в полном порядке, работы тоже хватает… — Несправедливость заключается в том, что великий — дада, я заявляю об этом во всеуслышанье, — великий режиссер всю свою жизнь обречен кропать сценарии.
— И кто же этот великий режиссер? — Тот, кто сейчас с тобой говорит. I — Ладно, ладно, тебе-то грех жаловаться, насколько я знаю, за твои сценарии платят очень даже прилично.
— Да я готов снять этот фильм бесплатно. И если с любым другим режиссером съемки обойдутся тебе в четыреста миллионов лир, со мной — не больше чем в сто.
Теперь Протти хлопает меня рукой по плечу. Опять эта всегдашняя рука "возвышенца" на плече "униженца". Мне хочется схватить эту унизительную руку и отшвырнуть ее в сторону с криком: "Да, "Экспроприация" — это мой фильм, и не только потому, что я человек культуры и интеллигент, а потому, что я бунтарь. Я не дожидался 1968 года, чтобы восстать против существующих устоев, я восстал против них с рождения. И прежде всего я восстал против твоего грязного, эксплуататорского капитализма, против твоей грязной невежественной буржуазии и против тебя самого, их яркого представителя, развратника и сутенера!" Но, как всегда, я оставляю все это в себе, не отстраняю его руки, не открываю рта, только слегка повожу от нетерпения плечом.
Протти заключает: — Ладно, пока суд да дело — занимайся сценарием и слушай, что тебе говорит Маурицио: он парень с понятием. Насчет режиссуры договоримся так: я принимаю твою кандидатуру.
— Как это понимать? — А так, что, когда настанет время выбирать режиссера для "Экспроприации", я буду учитывать и тебя.
— Когда же настанет это время? — Скоро.
— И что будет решающим при выборе режиссера? — Интересы производства.
Мы уже на пороге. С вершины лестницы озираю широкое овальное пространство, выхваченное из темноты мрачноватобледным свечением; верхушки кладбищенских кипарисов на фоне ночного неба; в центре пространства — длинный узкий стол; за столом восседает вся "дворня" Протти: в размытом свете голубоватых фонарей сидящие за столом как никогда напоминают сходбище призраков. Да-да, болтливых, циничных, брезгливых, заискивающих, угодливых, мерзких призраков! Призраков-"униженцев"! Резко поворачиваюсь к Протти и говорю решительным голосом: — Спасибо, что оказал мне такую любезность и выслушал меня. Я вижу, ты направляешься к столу. Извини, но я туда не пойду. Я ухожу. И знаешь почему? — Почему? — Потому что ты держишь при себе "дворню". Нет-нет, я тебя вовсе не порицаю: у каждого свои вкусы. Просто твоя "дворня" состоит из людей, которых я больше не приемлю.
— Что же они тебе такого сделали? — Лично мне — ничего. Я их не переношу — и точка. Как, впрочем, и они не переносят меня. Скажем, так: характерами не сошлись. И не будем больше об этом.
Протти покровительственно-ласково улыбается, как и подобает истинному "супервозвышенцу", для которого сентиментальные порывы "униженцев" — что лихорадочные корчи холерного вибриона под микроскопом.
— Да с чего ты взял? Все они милые парни. Ладно, не кипятись, посиди еще с нами. Бьюсь об заклад, Кутике уже не терпится побазарить с тобой на какую-нибудь возвышенную литературную тему.
За нос! Он водит меня за нос! Я распрямляюсь, выпячиваю грудь, задираю подбородок: — Будь здоров, мне пора. Как-нибудь в следующий раз. Извинись за меня перед синьорой Мафальдой и милыми парнями. Пока.
Поворачиваюсь к нему спиной, машу рукой на прощанье, быстрым шагом направляюсь к столу призраков и громко зову: — Пошли, Фауста! Фауста с готовностью вскакивает с места. Бедная Фауста! Поди, заметила, как Мафальда кинулась за мной в дом, и Бог знает что подумала. Так и есть: пока мы идем к машине, она спрашивает странным, заговорщическим тоном, в котором чувствуется боль ревности: — Что вы там делали с Ледой Лиди? После столь длительного пребывания "снизу" чувствую необходимость обрести приятное ощущение того, что я снова "сверху". Хотя бы с такой вареной "ущемленкой", как Фауста.
— Что и полагалось, — отвечаю я безжалостно. — Она прибежала вслед за мной, мы уединились в гостиной, и я ее поцеловал. Все как надо. Взасос. А потом она назначила мне свидание.
— Где? — У фонтана около решетки.
— И когда? — Сейчас.
— Ты пойдешь? Только собрался ответить: "Ясное дело, пойду" — как "он" почему-то встревает: "- Не стоит. Пусть помучается.
— Как, мы уже от старушатинки больше не тащимся? — Да я не о том. Говорят тебе: пусть помучается". В конечном счете "он", наверное, прав. На сегодня штурм крепости Мафальда приостанавливается, тем более что все оборонительные сооружения уже опрокинуты и завоеваны и крепость можно считать взятой.
— Посмотрим, — говорю я Фаусте. — На месте разберемся. Если пойду, останешься ждать меня на дороге в машине.
— А что ты собираешься с ней делать? — Все. Молчит. Опустила двойной подбородок, точно рассматривая собственный заголенный живот, выпирающий из брюк. Вот и машина.
— Садись за руль, — предлагаю я лукаво. — Когда подъедем и я решу выйти, не надо будет меняться местами. Фауста не отвечает. Садится за руль с угрюмым видом; подсаживаюсь; она заводит мотор, опускает ручник и трогается.
Машина берет с места в карьер с яростным ревом. Мы выезжаем из аллеи, стремительно врываемся на площадку перед виллой и несемся прямо к столу. Еще немного — и машина врежется в Протти и его "дворовых". Признаюсь, в этот момент меня пронзила такая мысль: была не была, пусть делает, что хочет. Пусть передавит всех до одного словно тараканов. Вижу, как перепуганные гости, не веря своим глазам, рванулись назад, заметив взбесившуюся машину и словно соображая, шутка это, оплошность или нечто худшее; вижу, к своему неописуемому удовольствию, как мой архивраг Кутика вверх тормашками летит на землю вместе со стулом, но в ту же самую секунду встряхиваюсь и хватаю двумя руками руль. Машина круто уходит в сторону, едва не задев стол, и въезжает в аллею. Мы уносимся прочь мимо олеандров, а я обращаюсь к Фаусте: — Совсем, что ли, сбрендила? — Я потеряла управление.