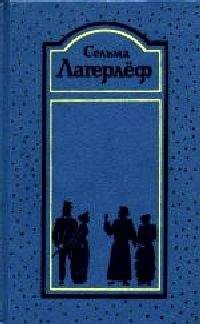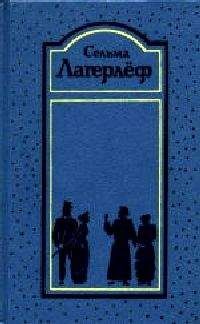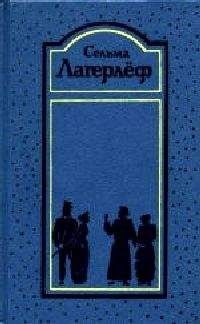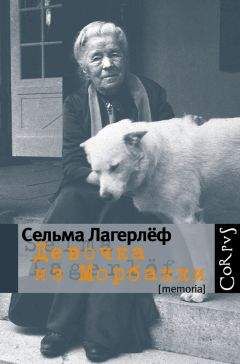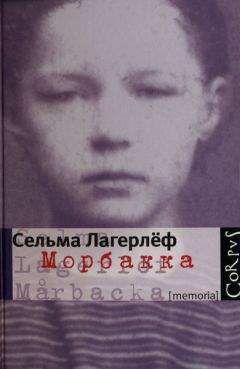Стыдись, мой милый амур. Я поставила тебя здесь стражем моей любви, а ты, ты помогаешь другой!
Из-за того, что Тея Сундлер любит Карла-Артура, ты допустил, чтобы я вытерпела клевету, кошачьи концерты, хулительные песни, и не защитил меня!
Из-за того, что Тея Сундлер любит Карла-Артура, допустил, чтобы я приняла предложение Шагерстрёма, ты допустил оглашение в церкви и теперь намерен, быть может, повести нас к алтарю.
Из-за того, что Тея Сундлер любит Карла-Артура, ты допустил, чтобы мы все жили в страхе и отчаянии.
Ты не щадишь никого. Ты заставил страдать бедных стариков здесь и в Карлстаде оттого лишь, что покровительствуешь толстухе Сундлер с ее рыбьими глазами.
Из-за того, что Тея Сундлер любит Карла-Артура, ты отнял у меня счастье. Я думала, что меня хочет погубить какой-то злой волшебник, а оказалось, что это не кто иной, как ты, мой милый амур.
Вначале она говорила шутливым тоном, но перечисление всех свалившихся на нее несчастий глубоко взволновало ее, и она продолжала голосом, дрожащим от слез:
— О ты, божок любви, разве не доказала я тебе, что умею любить? Отчего же ее любовь тебе более угодна, чем моя? Разве не умею я быть такой же верной в любви, разве в ее сердце горит более чистый и сильный огонь, чем в моем? Отчего же, амур, ты покровительствуешь ее любви, а не моей?
Что мне сделать, чтобы умилостивить тебя? О амур, амур, вспомни о том, что ты влечешь к гибели того, кого я люблю. Неужто ты намерен подарить ей еще и его любовь? Это единственное, в чем ты до сих пор отказывал ей. О амур, амур, неужто ты намерен подарить ей его любовь?
Она больше не спрашивала, не удивлялась. Вся в слезах легла она в постель.
ПОХОРОНЫ ВДОВЫ СОБОРНОГО НАСТОЯТЕЛЯ
Спустя несколько дней после возвращения полковницы Экенстедт из Корсчюрки в Карлстад явилась очень красивая далекарлийка-коробейница со своим неизменным кожаным мешком за плечами. Но в городе, где держали лавки настоящие купцы, ей запрещалось заниматься ее обычным промыслом. Поэтому коробейница оставила громоздкий мешок на квартире, где она стояла, и вышла на улицу, подвесив на руку корзинку, в которой лежали изготовленные ею браслеты и часовые цепочки из волос.
Молодая далекарлийка ходила по домам, предлагая свой товар, и, разумеется, не прошла мимо дома Экенстедтов.
Ее искусные поделки привели полковницу в совершенный восторг, и она предложила коробейнице пожить несколько дней в ее доме, чтобы изготовить сувениры из длинных белокурых локонов, которые полковница срезала у сына, когда он был ребенком, и с тех пор тщательно берегла.
Предложение это пришлось, как видно, по душе молодой далекарлийке. Она без долгих раздумий приняла его и уже на следующее утро взялась за работу.
Мадемуазель Жакетта Экенстедт, которая сама была весьма искусна в рукоделии, часто наведывалась к далекарлийке, жившей в пристройке для слуг, чтобы взглянуть на ее работу. Таким образом, между ними завязалось знакомство и, можно даже сказать, дружба. Юную горожанку привлекала в простой коробейнице ее красивая наружность, выгодно подчеркиваемая ярким нарядом. Жакетта искренне восхищалась усердием и прилежанием этой искусницы, ее умом, который проявлялся в способности давать краткие и меткие ответы на любой вопрос.
Разумеется, она была поражена, обнаружив, что этот острый ум принадлежит девушке, которая не умеет ни читать, ни писать. Кроме того, она, к своему удивлению, несколько раз заставала далекарлийку за курением короткой железной трубки. Это обстоятельство несколько охладило восторги Жакетты, не помешав, впрочем, дружеским отношениям между обеими девушками.
Забавляло мадемуазель Экенстедт также и то, что далекарлийка употребляет множество слов и выражений, которых она не могла уразуметь. Так однажды, когда она привела свою новую подругу в господский дом, чтобы показать ей красивые вещи, украшавшие комнаты, бедняжка сумела выразить свой восторг лишь восклицанием: «Вот так грубо!» Мадемуазель Экенстедт почувствовала себя глубоко уязвленной, но затем, к немалой потехе домашних, выяснила, что слово «грубо» в устах далекарлийки означает нечто восхитительное и великолепное.
Сама полковница редко посещала прилежную мастерицу. Она, казалось, предпочитала с помощью дочери выведать ее ум, характер и привычки, чтобы таким путем решить, годится ли она в жены ее сыну. Ибо всякий, кому хоть сколько-нибудь известен был проницательный ум полковницы, ничуть не усомнился бы в том, что она с первого же мгновения признала в этой молодой женщине новую невесту сына.
Между тем пребывание далекарлийки в доме Экенстедтов было прервано одним весьма прискорбным обстоятельством. С сестрой полковника, фру Элизой Шёборг, вдовой настоятеля собора Шёборга, которая после кончины мужа жила в доме своего брата, случился удар, и через несколько часов ее не стало. Необходимо было подобающим образом подготовиться к похоронам, и каждое помещение в доме оказалось на учете, ибо нужно было разместить пекарих, швей и, наконец, обойщиков, приглашенных, чтобы обтянуть стены черным штофом. Далекарлийку тотчас же отослали со двора.
Ей велели зайти к полковнику, чтобы получить за труды, и прислуга заметила, что беседа в кабинете длилась необычно долго, а когда далекарлийка вышла оттуда, глаза ее были красны от слез. Добросердечная экономка подумала, что коробейница огорчена тем, что ей приходится раньше времени покидать дом, где все были столь добры к ней, и, желая утешить девушку, пригласила ее прийти на кухню в день похорон, чтобы отведать лакомств, которые будут подаваться на поминках.
Похороны были назначены на четверг, тринадцатое августа. Хозяйский сын, магистр Карл-Артур Экенстедт, был, разумеется, вызван из Корсчюрки и прибыл в среду вечером. Его встретили с большой радостью, и все время до отхода ко сну он рассказывал родителям и сестрам о той любви, которой он теперь окружен в своей общине. Не так-то легко было заставить скромного молодого пастора рассказать о своих триумфах, но полковница, которая была осведомлена обо всем благодаря письму Шарлотты Лёвеншёльд, своими расспросами вынудила его рассказать о всех знаках любви и благодарности, которые выказывают ему прихожане, и нетрудно понять, что она при этом испытала чистейшую материнскую гордость.
Вполне естественно, что в этот вечер не представилось случая упомянуть о поденщице, которая прожила в доме несколько дней. На другое утро все были целиком поглощены приготовлениями к похоронам, так что Карл-Артур и на этот раз ничего не услышал о пребывании красивой далекарлийки в доме его родителей.
Полковник Экенстедт желал, чтобы сестра была достойно предана земле. На похороны были приглашены епископ и губернатор, а также лучшие фамилии города, которые имели касательство к покойной госпоже Шёборг.
В числе гостей был и заводчик Шагерстрём из Озерной Дачи. Он был приглашен, поскольку через свою покойную жену находился в свойстве с настоятелем собора Шёборгом, и, чувствуя себя весьма обязанным за внимание со стороны людей, которые имели веские основания быть на него в претензии, с благодарностью принял приглашение.
После того как старую фру Шёборг под пение псалмов вынесли из дома и в сопровождении длинной процессии отвезли к месту упокоения, все присутствовавшие на похоронах возвратились в дом скорби, где их ожидал поминальный обед. Само собою, обед был долгим и обильным, и едва ли стоит упоминать о том, что на нем строго соблюдались приличествующие случаю серьезность и торжественность.
Как родственника усопшей, Шагерстрёма посадили подле хозяйки, и ему, таким образом, представился случай поговорить с этой необыкновенной женщиной, с которой он никогда прежде не встречался. В глубоком трауре она производила весьма поэтическое впечатление, и хотя ее остроумие и искрящаяся веселость, которыми она славилась, в этот день, разумеется, не могли обнаружиться, Шагерстрём все же нашел беседу с ней необычайно интересной. Ни минуты не колеблясь, он также впрягся в триумфальную колесницу этой очаровательницы и был, в свою очередь, рад доставить ей удовольствие, рассказав о проповеди ее сына в прошедшее воскресенье и о том впечатлении, которое она произвела на слушателей.
За обедом молодой Экенстедт поднялся и произнес речь в память почившей, выслушанную всеми присутствующими с величайшим восхищением. Все были захвачены его простым, безыскусственным, но в то же время увлекательным, умным изложением и живым описанием характера покойной тетки, которая, по всей вероятности, была очень привязана к нему. Однако внимание Шагерстрёма, а также и многих других гостей время от времени обращалось от оратора к его матери, которая сидела, полная восторга и обожания. От соседа по столу Шагерстрём узнал, что полковнице лет пятьдесят шесть или пятьдесят семь, и хотя лицо ее, пожалуй, выдавало ее возраст, он подумал, что ни у одной юной красавицы нет таких выразительных глаз и такой обворожительной улыбки.