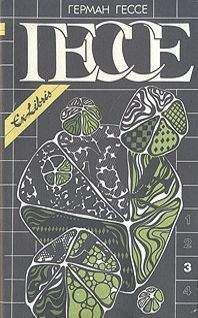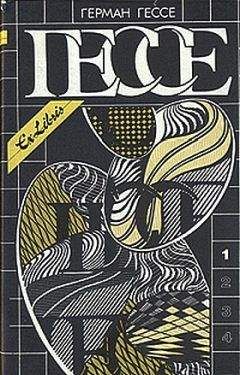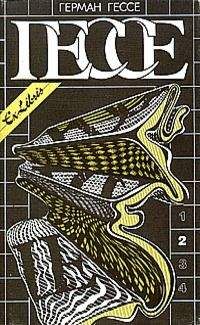Когда он вернулся, Роберт чуть ли не на коленях умолял его идти как можно скорее дальше. У него таки было основание для уговоров: он видел в отсутствующем взгляде Гольдмунда эту уже слишком знакомую ему погруженность в себя и окаменелость, эту обращенность к ужасному, это жуткое любопытство. Ему не удалось удержать друга. Один, Гольдмунд пошел в город.
Он прошел через неохраняемые ворота и, слушая отзвук своих шагов по мостовой, припомнил множество городков и ворот, через которые ему пришлось пройти: ему вспомнилось, как его встречали там детский крик, мальчишеская игра, женская перебранка, стук молота по звонкой наковальне, грохот телег и множество других звуков, тонких и грубых шумов, разноголосица которых, как бы сплетаясь в сеть, свидетельствовала о разнообразном человеческом труде, радостях, делах и общении. Здесь же, у этих оставленных ворот и на этой пустынной улице, не звучало ничего, никто не смеялся, никто не кричал, все лежало застывшим в молчании смерти, а лепечущая мелодия бегущего фонтана звучала слишком громко и казалась почти шумом. За открытым окном среди караваев и булок был виден булочник; Гольдмунд показал на булку, и тот осторожно протянул ее на длинной пекарской лопате, подождал, пока Гольдмунд положит ему деньги на лопату, и зло, но без крика, закрыл окошко, когда чужак, впившись зубами в булку, пошел дальше, не заплатив. Перед окнами одного красивого дома стоял ряд глиняных горшков, в которых обычно красуются цветы, теперь же над пустыми горшками свисали засохшие листья. Из другого дома доносились всхлипывания и детский плач. Но на следующей улице Гольдмунд увидел наверху за окном красивую девушку, расчесывающую волосы; он смотрел на нее, пока она не почувствовала его взгляд и не посмотрела вниз; покраснев, она взглянула на него, и когда он ей дружелюбно улыбнулся, по ее покрасневшему лицу медленно пробежала слабая улыбка.
— Скоро причешешься? — крикнул он вверх.
Улыбаясь, она наклонила светлое лицо из окна.
— Еще не заболела? — спросил он, и она покачала головой. — Тогда пойдем со мной из этого мертвого города, пойдем в лес и заживем на славу.
Она вопросительно взглянула на него.
— Не раздумывай долго, я — серьезно, — кричал Гольдмунд. — Ты у отца с матерью живешь или прислуживаешь у чужих? А, у чужих. Тогда пойдем, милое дитя, оставь старых умирать, мы-то молоды и здоровы и еще неплохо поживем немного. Пойдем, каштаночка, я говорю всерьез.
Испытующе посмотрела девушка на него, нерешительно, удивленно. Он медленно пошел дальше, прошелся по одной безлюдной улице, по другой и вернулся обратно. Девушка все еще стояла у окна, наклонившись, и обрадовалась, что он пришел опять. Она кивнула ему, не спеша он пошел дальше, вскоре она последовала за ним; не доходя ворот она догнала его — с небольшим узелком в руке, с красным платком на голове.
— Как же тебя зовут? — спросил он ее.
— Лене. Я пойду с тобой. Ох, здесь в городе так плохо, все умирают. Прочь отсюда, прочь!
Вблизи ворот на земле прикорнул недовольный Роберт. Он вскочил, когда Гольдмунд подошел, и широко раскрыл глаза, увидев девушку. На этот раз он не сразу сдался, причитал и устроил скандал, что вот-де из проклятой чумной дыры приводят какую-то особу и требуют от него терпеть ее общество. Это, мол, более чем безумие, это искушение Господне, и он отказывается, он не пойдет дальше с ним, его терпению теперь пришел конец.
Гольдмунд позволил ему проклинать и жаловаться, пока тот не притих немного.
— Так, — сказал он, — ты нам достаточно долго распевал. Теперь ты пойдешь с нами и будешь радоваться, что у нас такое милое общество. Ее зовут Лене, и она останется со мной. Но я хочу порадовать тебя, Роберт. Слушай: мы поживем теперь немного в покое, пока здоровы, и постараемся избежать чумы. Найдем себе хорошее место с какой-нибудь пустой хижиной или же сами такую построим, мы с Лене будем хозяином и хозяйкой, а ты нашим другом и будешь жить с нами. Все будет хорошо и по-товарищески. Согласен?
О да, Роберт был согласен. Только бы от него не требовалось подавать Лене руку или касаться ее платья.
— Нет, — сказал Гольдмунд, — этого не требуется. Более того: тебе строжайше запрещается касаться Лене хотя бы пальцем. И не мечтай об этом!
Они отправились в путь втроем, сначала молча, потом постепенно девушка разговорилась. Как, мол, она рада снова видеть небо, и деревья, и луга, а как страшно было там, в чумном городе, даже трудно передать. И она начала рассказывать, облегчала душу, освобождаясь от печальных и ужасных картин, которые ей пришлось видеть. Немало историй рассказала она, печальных историй, маленький город стал адом. Из двух врачей один умер, другой ходил только к богатым, и во многих домах лежали мертвые и разлагались, потому что их некому было забрать, в других же — работники, вывозившие мертвецов, грабили, распутничали и развратничали и часто с трупами вытаскивали из постелей и живых больных, бросали в свои живодерские телеги и швыряли их вместе с мертвыми в ямы. Много дурного могла рассказать она; они не перебивали ее, Роберт слушал с ужасом и жадностью, Гольдмунд же оставался спокойным и равнодушным: он старался освободиться от страшного и ничего не говорил по этому поводу. Да и что тут можно было сказать? Наконец Лене устала и поток иссяк, слова кончились. Тогда Гольдмунд пошел медленнее и начал совсем тихо напевать песню с множеством куплетов, и с каждым куплетом голос его становился все полнее; Лене начала смеяться, а Роберт слушал, счастливый и глубоко удивленный, никогда до сих пор ему не приходилось слышать, как Гольдмунд поет. Все умел он, этот Гольдмунд. Вот идет и поет, удивительный человек! Он пел искусно и чисто, но приглушенным голосом. И вот уже на второй песне Лене стала тихо подпевать, а вскоре запела в полный голос. Вечерело, вдали от пашен чернели леса, а за ними поднимались невысокие голубые горы, становившиеся как бы изнутри все голубее. То радостно, то торжественно звучало их пение в такт шагам.
— Ты сегодня такой довольный, — сказал Роберт.
— Да, я довольный, конечно, я сегодня довольный, я ведь нашел такую красивую возлюбленную. Ах, Лене, как хорошо, что прислужники смерти оставили тебя для меня. Завтра найдем небольшое убежище, все будет хорошо, и будем радоваться, пока живы-здоровы. Лене, ты видела когда-нибудь осенью в лесу толстый гриб? Его еще очень любят улитки, и он съедобный.
— О да, много раз, — засмеялась она.
— Твои волосы, Лене, такие же коричневые, как его шляпка. И пахнут так хорошо. Споем еще одну? Или ты проголодалась? В моей сумке найдется кое-что.
На другой день они обнаружили, что искали. В небольшой березовой рощице стояла хижина из неотесанных бревен, построенная, по-видимому, дровосеками или охотниками. Она стояла пустая. Дверь открылась не без труда, и даже Роберт нашел, что это хорошая хижина и что местность тут здоровая. По пути им встретились козы, бродившие без пастуха, и одну прекрасную козу они взяли с собой.
— Ну, Роберт, — сказал Гольдмунд, — хотя ты и не плотник, зато был когда-то столяром. Мы будем здесь жить, тебе придется сделать перегородку в нашем замке, чтобы у нас было две комнаты: одна для Лене и меня, другая — для тебя и козы. Еды у нас не так много, сегодня мы довольствуемся козьим молоком, много его будет или мало. Итак, ты сделаешь стену, а мы вдвоем соорудим ночлег для всех нас. Завтра я отправлюсь за пропитанием.
Все сразу принялись за дело. Гольдмунд и Лене пошли собирать солому, папоротник, мох для постелей, а Роберт отточил кремнем, найденным в поле, свой нож, чтобы нарезать колышков для стены. Однако за один день он не успел ее сделать и ушел вечером спать под открытым небом. Гольдмунд нашел в Лене милую подругу в любовных играх, робкую и неопытную, но полную любви. Нежно положил он ее к себе на грудь и долго не спал, слушая, как бьется ее сердце, когда она, давно уставшая и удовлетворенная, заснула. Он нюхал ее каштановые волосы, прильнув к ней, и думал одновременно о той плоской яме, в которую закутанные черти сбрасывали трупы с телег. Прекрасна была жизнь, прекрасно и мимолетно счастье, прекрасно и быстро увядала молодость.
Очень хорошая получилась перегородка в хижине, в конце концов они делали ее втроем. Роберт, желая показать, на что он способен, с воодушевлением говорил о том, что бы он сделал, если бы у него только были инструменты, столярный верстак, наугольник и гвозди. Поскольку у него не было ничего, кроме ножа и собственных рук, он довольствовался тем, что срезал с десяток березовых колышков, сделал из них прочный грубый забор и вбил его в пол хижины. Промежутки же, так он рассудил, надо было заплести дроком. На это нужно было время, но всем было радостно и хорошо, и все работали дружно. Между тем Лене собирала еще ягоды и присматривала за козой, а Гольдмунд, ненадолго отлучаясь, осматривал местность в поисках пропитания, обследовал соседнюю округу, принося то да се. Нигде поблизости не было ни души, Роберта это вполне устраивало: они были в безопасности, защищены как от заразы, так и от враждебных выпадов; но в этом был и свой недостаток: уж очень мало было еды. Неподалеку стоял покинутый крестьянский дом, на этот раз без мертвецов, так что Гольдмунд предложил было перебраться в него из их сруба, но Роберт в ужасе запротестовал и с неохотой смотрел, как Гольдмунд вошел в пустой дом; каждая вещь, которую тот приносил оттуда, сначала окуривалась и мылась, прежде чем Роберт дотрагивался до нее. Немногое нашел там Гольдмунд, но все-таки кое-что добыл: две табуретки, подойник, немного глиняной посуды, топор, а однажды поймал в поле двух заблудившихся кур. Лене была влюблена и счастлива, и всем троим доставляло удовольствие строить свое маленькое гнездышко и делать его с каждым днем немножко уютнее. Не было хлеба, зато они взяли еще одну козу, нашлось также небольшое поле с репой. День шел за днем, плетеная стена была готова, постели усовершенствованы, и построен очаг. Ручей был недалеко, вода в нем оказалась чистая и вкусная. За работой часто пели.