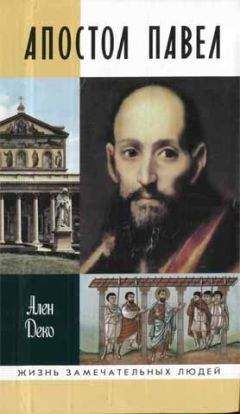– Нет, Гордон, не деньги!
– Деньги, только они. Они всегда стояли между нами, они везде и во всем.
Сцена еще продлилась, но недолго. Выяснять отношения на холодном ветру сложно. Расставание обошлось без пафоса. Она просто сказала «мне пора» и, чмокнув, побежала к трамвайной остановке. Глядя ей вслед, он ничего не чувствовал, не задавался вопросами о любви. Хотелось лишь скорей уйти с холодной улицы, подальше от страстных диспутов, к себе, в свою душную норку. А если в глазах и стояли слезы – исключительно от ветра.
С Джулией было, пожалуй, даже тяжелее. Узнав от Розмари о верных шансах в «Новом Альбионе», она попросила брата зайти к ней. Кошмар заключался в ее полнейшем, абсолютном непонимании его объяснений. Поняла она только то, что ему предлагают, а он отвергает «хорошее место». И когда Гордон заявил о твердом своем отказе, она залилась слезами, в голос зарыдала. Несчастный полуседой гусенок, откровенно рыдающий посреди своей вылизанной, принаряженной каморки! Рухнули все ее надежды. Семейство гибло, бессильно растеряв деньги, тихо, бесследно исчезая. Одному Гордону открывался путь к успеху, но и он, с упорством настоящего маньяка, стремится вниз. Пришлось застыть каменным истуканом, чтобы выдержать весь этот похоронный плач. Только они две, Джулия и Розмари, терзали душу. Равелстон умный, он поймет. Тетю Энджелу и дядю Уолтера, которые, конечно, тоже робко проблеяли нотации в длинных глупейших письмах, Гордон просто игнорировал.
На горестный вопрос Джулии, что же он, упустив последний спасительный шанс, намерен делать, Гордон ответил: «Писать стихи». Так он отвечал всем, и Равелстон серьезно кивнул, а Розмари, хоть и не верившая больше в его писательский труд, промолчала. От Джулии последовал обычный глубокий вздох, стихи всегда ей виделись пустым занятием (зачем, если тут ничего не платят?). В самом Гордоне веры в свое творчество тоже практически не осталось. Хотя он все еще боролся, пытаясь «работать». Обосновавшись у мамаши Микин, набело переписал законченные фрагменты «Прелестей Лондона». Всего получилось около четырехсот строк. Правда, даже переписка утомила до тошноты. И все-таки время от времени он что-то делал: вычеркивал, вставлял, менял. Но ни единой новой строчки не родилось и не предвиделось. Довольно скоро чистовая рукопись приняла вид прежней неразборчивой пачкотни. Скрученную стопку плотно исписанных листов Гордон всегда носил в кармане, это как-то поддерживало, что-то доказывало самому себе. Итог двух лет, результат тысячи, наверно, напряженных часов. Поэма? Вся ее идея перестала увлекать. Если бы вдруг и удалось закончить, единственным смыслом трудов явилось бы, что некий опус был сотворен вне мира денег. Только не дописать; нет, никогда уже не дописать. Какое вдохновение при такой его жизни? Перед уходом из дома рукопись привычно совалась в карман, но лишь как знак, как символ поединка. С мечтой стать «литератором» Гордон простился. В конце концов, что здесь кроме сплошных амбиций? Уйти, уйти, спрятаться ниже всего этого! Пропасть в толпе теней, неуязвимых для страхов и надежд. На дно, на дно!
Однако и туда не так-то просто. Вечером, часов около девяти он по обыкновению валялся на кровати, ноги под рваным покрывалом, озябшие руки под головой. Холодно, везде толстый слой пыли, скапустившийся, облетевший фикус сухой жердью в своем горшке. Приподняв ногу, Гордон оглядел носок – дыр больше, чем носка. Вот он, Гордон Комсток, – на грязной койке в рваных носках, за душой полтора боба, позади тридцать лет впустую. Ну что, теперь уж докатился? Уже никто, ничто не вытащит. Хотел в грязь – получил сполна. Ну как, спокоен?
Однако и теперь не очень-то спокоен. Тот мир, хищный мир денег и успеха, всегда рядом. Одним безденежьем, убогим бытом не спасешься. Когда ты узнал о готовом принять обратно «Альбионе», кроме злости сердечко-то ведь ёкнуло? Прямо в лицо дохнуло опасностью. Какое-нибудь письмо, телефонный звонок – и вмиг опять швырнет туда, где четыре фунта в неделю, усердная возня, благопристойность и подлое рабство. Попробуй-ка на деле провалиться к дьяволу. Застрянешь! Вся свора небесная рванет догонять, за шкирку тебя вытягивать.
В пристальном созерцании потолка мысли куда-то разбрелись, затуманились. Полная безнадежность окружавшей нищеты несколько успокоила. И тут в дверь тихо постучали. Не пошевелившись (видно, мамаше Микин приспичило что-то спросить), Гордон буркнул:
– Войдите.
Дверь открылась. Вошла Розмари.
Секунду, привыкая к шибанувшей в нос сладковатой затхлости, она стояла на пороге, и даже в свете еле коптящей лампы успела разглядеть этот хлев: заваленный бумагой и объедками стол, камин с горой золы и кучей грязных плошек, засохший фикус. Сняв шляпку, Розмари медленно приблизилась к кровати.
– Уютный уголок! – сказала она.
– Вернулась все-таки? – сказал он.
– Да.
Прикрывая глаза ладонью, Гордон слегка отвернулся.
– Пришла еще парочку лекций прочитать?
– Нет.
– А зачем?
– Затем…
Встав у постели на колени, она отвела с его лица ладонь, хотела было поцеловать, но удивленно отпрянула:
– Гордон!
– Что?
– У тебя седина!
– Где это?
– Прямо на макушке, целая прядка, это наверно совсем недавно.
– «Посеребрило мои кудри золотые», – равнодушно кинул он.
– Ну вот, оба седеем, – вздохнула Розмари и наклонила голову продемонстрировать три свои белые волосинки.
Потом забралась на кровать, легла рядом и, обняв, стала целовать его. Он не сопротивлялся. Его не тянуло (эта близость сейчас была бы совершенно ни к чему), но она сама скользнула под него, прижалась мягкой грудью, прихлынула тающим телом. По выражению ее лица он видел, что привело сюда невинную глупышку, – великодушие, чистейшее великодушие. Решила уступить, хоть так утешить нищего неудачника.
– Не могла не вернуться, – шепнула Розмари.
– Зачем?
– Так жутко было думать, что ты где-то там один-одинешенек.
– Напрасно. Лучше бы тебе меня забыть. Мы никогда не сможем пожениться.
– Ну и пускай. Любящим это безразлично. А я тебя люблю.
– Не слишком-то разумно.
– Ну и пускай. Нам давно надо было.
– Пожалуй, не стоит.
– Нет, стоит.
– Ну не будем.
– Будем!
Что ж, она одолела. Он так долго желал ее, что не смог отказаться, и это наконец произошло. Без дивных наслаждений, на несвежей койке в углу съемного чердака. Затем она встала и привела себя в порядок. Несмотря на духоту пробирала зябкая сырь. Оба слегка дрожали. Укрыв лежащего лицом к стене Гордона, Розмари взяла его вяло расслабленную руку, потерлась о нее щекой. Он даже не шелохнулся. Тогда она, тихо прикрыв за собой дверь, на цыпочках пошла вниз по зловонной, замусоренной лестнице. Ей было грустно, неспокойно и очень холодно.
Весна, весна! Повеяло дыханием поры волшебной, когда оживает и расцветает мир! Когда потоком вешних струй смывает уныние зимы, красою нежной молодой листвы сияют рощи, зеленеют долы и меж душистых первоцветов кружат, ликуя, эльфы, а с ветвей несется звонкой птичьей перекличкой «тинь-тинь», «ку-ку», «чик-чирик», «фью-тю-тю»! Ну, и так далее (смотри любого поэта от Бронзового века до 1805 года[30]).
Находятся немало чудаков, которые все продолжают воспевать этот вздор в эру центральной отопительной системы и консервированных персиков. Хотя весна, осень – какая теперь разница цивилизованному человеку? В городах вроде Лондона смену сезонов кроме показаний термометра отмечает лишь специфический мусор на тротуаре. Конец зимы – топаешь по ошметкам капустных листьев, в июле под ногами россыпь вишневых косточек, в ноябре – пепел фейерверков, к Рождеству – апельсиновые корки. Вот в старину, просидев месяцами в хижине на сухарях и солонине, дождавшись свежего мяса и овощей, весенние восторги, конечно, имели смысл.
Гордон прихода весны не заметил. Март в Ламбете не напоминал о Персефоне. Дни стали подлиннее, донимали пыльные ветры, иногда в сереньком небе проблескивали лазурные дыры. При желании можно было наверно обнаружить даже почки на закопченных деревцах. Кстати, фикус мамаши Микин все-таки выжил: листья с него опали, зато из ствола полезли рожки двух новых отростков.
Уже три месяца Гордон спокойно гнил в рутине приема-выдачи глупейших книжек. Товарные запасы разрослись до тысячи наименований, и заведение в неделю приносило фунт чистой прибыли. Хозяин был бы совершенно счастлив, если б не досадный просчет с помощником. Купив себе, так сказать, алкоголика, Чизмен с надеждой ждал, когда же тот напьется, прогуляет и даст повод себя оштрафовать. Однако этот Комсток регулярно являлся абсолютно трезвым. Как ни странно, к выпивке Гордона нисколько не тянуло. Даже от кружки пива он сейчас отказался бы в пользу чайной отравы. Все желания, претензии иссякли. На полтора фунта в неделю жилось проще, чем на два. Хватало почти в срок оплачивать жилье и кое-какую стирку, купить угля, сигарет, чая, хлеба и маргарина. Порой еще оставалось полшиллинга сходить в паршивую киношку по соседству. Рукопись он по привычке таскал с собой, но относительно «работы над поэмой» и притворяться перестал. Вечера проходили однообразно: забраться к себе на чердак, затопить камин, глотать чай и читать, читать. Чтивом теперь служили воскресные газетки – «Синичка», «Шарады и кроссворды», «Шутник», «Домашние советы», «Девичий клуб». Кипы старых газет (среди них – двадцатилетней давности) достались Чизмену от дяди, использовались для упаковки, и Гордон брал их пачками, что попадется.