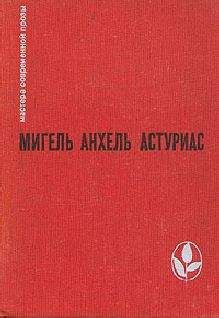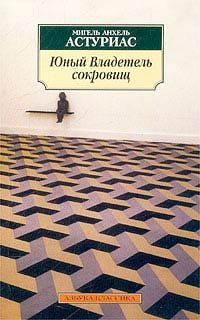— Не годится, значит…
— Глаза у нее злые. Слезай с мула, вместе ее возвратим.
— Я на почту спешу. А ты часом не встречал нашего Ничо Акино, письмоношу?
— Письмоношу, говоришь… Да нет, вроде не видал. Пошли со мной, я Деву отдам и тебя провожу.
Иларио согласился. Кого не уговорит Минчо Добос! И рожа у него такая добрая, и просит от всей души.
Индеец— носильщик тащил статую, обернутую простыней. Все трое вошли в мастерскую, неслышно ступая по стружкам, а встретил их приветливый запах кедра, краски и лака, отдающего бананом.
Минчо Лобос был человек добрый, мирный, незлобивый, но тут он накрепко схватился с главным скульптором, бледным человеком с пышной гривой, похожими на брови усами и галстуком-бабочкой. Вещи здесь были хрупкие, деликатные, и погонщик старался двигаться поосторожней, чтобы не свалить ненароком святых, стоявших на столах, верстаках, скамьях, полках. Святые были пыльные, никто о них не заботился, и солнце на них не светило, хотя оно и сверкало во дворе, заливая светом темную свежую зелень.
— Хоть даром дарите, не возьмем! — голосил Минчо Лобос. — Пускай она писаная красотка, а глаза у нее злые!
— Да что у нее с глазами, объясните вы мне?
— С глазами у нее… Не знаю, не объясню, тут понимать надо. Глаза — зеркало души, а разве вот у нее отражается душа Божьей Матери?
— Если вы не можете ничего объяснить, как же я ее заменю? Лицо делать долго и трудно. А труднее всего его оживить. Вы и представить не можете, сколько надо терпения, пока наводишь на дерево лоск собственной слюной и свиным пузырем. По-вашему, сделал, и все…
— По-моему, не годится она. Я плачу, могу же я и требовать! Глаза не те…
— Глаза у нее святые, — пояснил скульптор глухим, чахоточным голосом. — У святых в глазах ничего не отражается. Вот вам святой Иоаким, вот святой Антоний, вот, подальше, святой Франциск, вот Христос несет крест…
— О вкусах не спорят. Меняйте ей глаза, а то не заплачу. Найдем другого, не вы один на свете.
— Это будет нечестно, мы же договаривались, и я согласился взять пока что половину платы. Всегда что-нибудь да не то выйдет, если заказ из деревни. Говорят, платье шить на заказ — лучше удавиться, так что же нам сказать, когда такие темные заказчики!
— Вы меня не оскорбляйте, а перемените ей глаза!
— Опять вы про глаза!
— Да, про глаза. Вы ей, прости меня господи, звериные какие-то вставили… — Минчо Лобос затрясся сам от собственных слов, но сказать их пришлось, он шел до конца. Губы у него дрожали, плясала шляпа, которую он держал в руках, и лицо посерело.
Вошел молодой подмастерье, насвистывая вальс из «Веселой вдовы». Завидев чужих, он замолчал, положил на стол свертки в тонкой бумаге и, воспользовавшись наступившим молчанием, сказал:
— Принес я вам оленьи глаза. Говорят, ставьте их снова, других нету. Вот еще тигриные, может, понравятся. Есть у них и птичьи, но эти покруглей и посветлей.
— А тебе бы ослиные вставить! — возопил скульптор, трясясь от ярости, как лист, и кидаясь на ученика, который тут же и выскользнул за дверь, зная по опыту, каков во гневе маэстро. — Этот лавочник меня обманывал, — объяснил он пришельцам. — В каталоге значится «Глаза для святых», а что общего у святого со зверем?
— Продавец, когда их паковал, — робко вмешался подмастерье, — сказал кассирше: «У святых и у зверей глаза одинаковые, потому что и те и другие безгрешны».
— Сам ты зверюга! Мне вернут из деревни святую Анну — кому нужна Анна с оленьими глазами! А Иоанн Предтеча!…
Почта была недалеко. Лобос отослал индейца назад, объяснив ему, что матушка Дева останется тут, ее поправят, приукрасят. Иларио вскочил на своего мула, Лобос на коня, они вмиг одолели две-три улицы и остановились не у главного входа, а за углом, в длинном, узком переулке.
— Войду, где у них выход… — пояснил Иларио приятелю, а тот остался сторожить мула и коня.
Как был, при шпорах, со шляпой в руке и мешком через плечо, он вошел в большие двери и увидел множество людей в светло-зеленой форме. Одни сидели на длинных скамьях, расстегнув китель и вынув потные пятки из ботинок, другие шатались по залу, и никто ему не отвечал. Они и не слышали его — кто перешучивался, кто потягивался, кто растирал усталые от ходьбы ноги, кто собирался сортировать письма, прибывающие отовсюду в полных и полупустых мешках, на повозках, на телегах, на служебных машинах или просто у почтальонов на спине. Иларио пошел дальше, и наконец какой-то высокий и тощий человек им занялся. Он услышал его вопрос, покачал черепообразной головой и что-то собрался сказать, но в носу у него засвербило, он замахал руками и оглушительно чихнул, держа наготове носовой
платок. Иларио спросил снова, и темнолицый чиновник повторил словами то, что уже выразил знаками: почтальон из Сан-Мигель Акатана Дионисио Акино пока что не являлся. Должен был вчера к вечеру прийти, самое позднее — сегодня утром, но подевался куда-то.
— Обычное дело, — ворчливо прошамкал старик, лязгая плохо прилаженной челюстью. — Доверяют человеку, он деньги носит, хотя, заметьте, не кассир, а лишнего ни гроша не платят, и на дорогах у нас небезопасно. Идет он боковыми тропами, один, часто без оружия. Ваш этот сбежал, а сколько их уходит за границу, не перечесть. — Тут он потер костлявые руки. — Деньги в зоб, и поминай как звали.
Иларио глядел на него, не в силах вдохнуть воздух. Он весь горел, словно его обложили горчичниками, он маялся, как корень без земли, как река без русла, пробивающаяся сквозь сонные заросли, предчувствие томило его. Он понимал, что выходит в океан правды. Не слова чиновника его напугали — он и так все знал заранее, хотя и не хотел верить, а теперь уж сам убедился в том, чему противилось все его человеческое естество: и плоть человека, и дух человека. Как поверить, что твой собрат, рожденный и вскормленный женщиной, омытый ее слезами, по своей воле обратится в зверя, в животное, втиснет душу в низшую тварь, которая сильнее его, а все-таки ниже?
Сеньор Ничо и койот, которого он встретил на вершине, — одно и то же. Он видел этого койота вблизи и чуял ведь, что он человек, и даже знакомый.
Иларио молча вышел, отирая рукавом со лба капли холодного пота. Кое-как нахлобучил шляпу и, сам того не замечая, очутился в заросшем травой переулке, где синели жестяные, колючие листья каких-то растений и нежно желтели легкие, как мотылек, цветы.
— Худо тебе, — сказал Минчо Лобос, взглянув на его искаженное страхом лицо. Иларио взял поводья из его рук, намотал их на свою руку и сел в седло. — А мне и того хуже, — прибавил Минчо, укрепляя подпругу. — Знаешь, прямо не могу домой явиться. Они там ждут-дожидаются узнать, что стало с Девой. Когда я ее принес, мне сразу показалось, что у нее глаза не такие, но все обрадовались, разликовались, и я решил — ничего. А теперь мне прямо в лицо скажут: как не стыдно! Нет, ты посуди, разве можно вставлять святым чучелиные глаза?
— Вот что, Минчо, прав-то ты прав, но убиваться тоже не стоит, не к чему, пойдем лучше выпьем, и я тебе расскажу, что со мной было. Страшно мне! У других зверей глаза человечьи.
— Это у чучел?
— Нет, у живых. Чего ж тогда удивляться, если у святого глаза… Ну скажем, как у койота…
— Одумайся, что говоришь! Не в лютеране ли подался?
— Еще чего!
— Спасибо за приглашение, но выпьем мы с тобой в другой раз. Если я пьяный вернусь да еще скажу, что Пресвятой Деве вставили оленьи глаза, они меня на месте прикончат, они такие.
— А ты не допьяна пей. Пропустим по глоточку…
— Нет, Иларио, спасибо тебе. И про зверей с человечьими глазами в другой раз послушаю. Я и сам знаю, что они есть, мне дед рассказывал, он видел лекаря, который обращался в оленя, в Оленя Семи Полей, но то в старину…
Минчо Лобос протянул погонщику руку. Они простились. Каждый поехал в свою сторону, туда, куда влекли его думы. Иларио чуть не обогнал машину. Мул его несся так, как никогда не несся, искры из-под копыт летели. К счастью, он слушался всадника и не своевольничал.
В парикмахерской, как всегда, Иларио уселся в кресло, словно в седло, устроился поудобней и позвенел шпорами. Парикмахер, дон Тринидад Эстрада де Леон Моралес, приветливо похлопал его по спине.
— Постригите, как я люблю, и побрейте, — велел Иларио сразу, еще вешая шляпу, а теперь, закрытый простыней ниже колен, повторил: — Побрить и постричь, как я люблю.
— Не беспокоит? — спросил дон Тринидад, брея ему шею машинкой.
— От этой вашей штуки зубы болят, придется в аптеку идти.
— Вот еще тут немножечко, а то не выйдет по вашему вкусу, дон Ила. Вы мне пока что расскажите, как там, что в ваших краях. Дороги сейчас вроде бы ничего… Вы как, надолго к нам?
— Сейчас уезжаю…
— Значит, не за покупками… А дон Порфирио не приехал, дома остался. Я думал, вы вдвоем, как всегда — вы же прямо братья, все вместе, смотреть приятно. Я слышал, в тот раз у вас мул пропал или украли его.