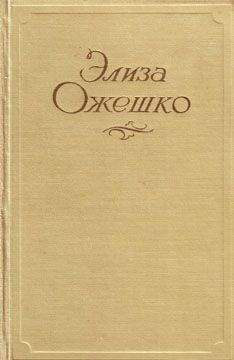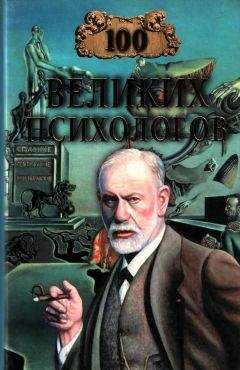— И мой сын тоже водку пить не будет, — отвечала она, — как бог свят, не будет. Вот уже месяц прошел, а он и не притронулся к ней… все время работает… Хлевинский платит ему по рублю в день… Шутка ли? Эти деньги он отдает на хранение мне… «Мама, говорит, ты купишь мне модный пиджак и пальто… а потом еще и серебряные часы. Оденусь, как барин!..» Вот увидите, пани Винцентова, он скоро счет потеряет своим деньгам. Богачом станет, первым мастером в Онгроде… Как Хлевинский, купит собственный дом…
— Дай бог! Дай бог! — пискливым голосом твердила кумушка, ехидно усмехаясь.
Жена пьяницы-гончара, она хорошо знала, чего стоят радужные мечты Романо́вой.
— Вот я со своим мужем ничего не могу поделать, — рассказывала она. — Я ему и рвотное в водку подливала и порошок, что мне гадалка дала, подсыпала, все без толку… Все, что заработает, в водке тонет… В доме такая нужда, что прямо хоть по миру иди с ребятами.
Краем платка она вытерла набежавшие на глаза слезы. Романо́ва смотрела на нее, и в ней снова просыпалась знакомая тревога, которая, впрочем, быстро исчезала. В глазах ее все еще стояло светлое виденье — мужественная, стройная фигура ее сына на фоне белых облаков, — и ни тревоге, ни слезам места уже не было. Гончар Винценты и ее сын — как можно их сравнивать! Первый всегда был лодырем, работать не любил и не умел, притом же был маленького роста, коренастый, с красным носом и постоянно слезящимися глазами. Сразу видать, что это человек беспутный, и таким он выглядел с самых юных лет. А ее Михал — статный, красивый, вылитый отец, такой же храбрый и веселый… лучший рабочий во всем городе, собак и даже кошек любит, как малых детей… чтобы его могла загубить водка?.. О нет! Видит бог, этому не бывать. Случилась как-то беда, ну и миновала!.. Малый погулял немного и теперь уж, конечно, образумился навсегда.
— Да поможет вам господь и пресвятая богородица, — сочувственно, но и не без некоторого злорадства, говорила Романо́ва, поблекшей, унылой кумушке и спешила дальше. Вбежав в кухню, она ставила корзину на пол и энергично, с жаром принималась за работу. От природы она была необычайно трудолюбива и, несмотря на свои пятьдесят лет, не утратила еще той силы, которая в былое время позволяла ей помогать мужу в его тяжелой работе.
Таскать издалека воду ведрами, колоть дрова в любое время дня и ночи, в трескучий мороз или под проливным дождем сбегать на другой конец города, — все это было ей нипочем, все это она делала охотно и быстро. Счастливое начало ее жизни словно оставило лучезарный след, поддерживавший в ней бодрость духа.
В ту пору, когда они с Жужуком чувствовали себя счастливыми, она ни на минуту не умолкала. Подобрав волосы под белый чепец, засучив до локтя рукава кофты, с раскрасневшимся от жара лицом, она суетилась возле печки и кастрюль — то доливала, то подсыпала что-то, то рубила мясо, месила тесто, пробовала кушанья и не переставая тараторила. Кто бы ни зашел в кухню, — сосед ли, какая-нибудь знакомая, водовоз, еврейка, торговавшая фруктами, — со всеми она готова была трещать без конца. Да ей и было о чем порассказать и чем похвастаться. Перебравшись с ребенком в город спустя два года после смерти мужа, сколько она испытала нужды и сколько хлебнула горя. Шутка ли? Из деревни — в город! Всем известно, какие мучения и неприятности сваливаются на вашу голову при такой ломке жизни.
Вот идет по городу несчастная женщина с изможденным лицом, шагает по скользким или раскаленным камням в рваных башмаках и, обалдев от вида огромных зданий, тупо смотрит на них глазами, в которых когда-то, быть может, и светилась живая мысль; едва не плача она ведет за руку тоже готового расплакаться ребенка. Если бы ее спросили: «Зачем ты сюда явилась?» — она бы ответила, что после смерти мужа нужда заставила ее скитаться по чужим хатам и дворам и что она от людей прослышала, будто в городе устроиться легче, а муж ее всегда говорил, что сына надо вырастить, человеком сделать, и она об этом помнит.
Разве, живя в деревне, она могла бы вывести его в люди? Сначала он был бы пастухом, а потом батраком — и дальше ни с места! Ну, а в городе совсем другое дело! В деревне отец мечтал оставить сыну собственную хату и клочок земли. Здесь же мать, таскаясь по незнакомым еще городским улицам, голодная, бедно одетая, перепуганная, с тоской в душе, смотрела на высокие каменные дома и все же думала: «Ах, если бы сыночек мой стал когда-нибудь владельцем такого дома!» В городе первым делом надо было обратиться к комиссионерше — с просьбой найти ей работу; к ней направила Романо́ву жившая тут родственница работа подвернулась, но жалованье было ничтожное, харчи плохие, к тому же угнетала мучительная зависимость от чужих людей, грубо и презрительно относившихся к ней, простой мужичке. Ну что ж! Быть может, дальше будет лучше.
Какое! Ей долго пришлось переносить невзгоды: кочевать с места на место, терпеть дурное обращение, оскорбительные ругательства и вынужденную безработицу, голод, холод и тревогу за судьбу свою и ребенка. Терзали Романо́ву и воспоминания о прошлом… ах, эти воспоминания об утраченном счастье, о собственном домашнем очаге… о родной стороне… Хотя она и не умела точно произнести слово «воспоминание», хотя, быть может, даже смысла этого слова как следует не понимала, но воспоминания вызывали в ней такую же жгучую боль, как и у тех, кто сумел бы претворить их в прекрасные стихи.
Она не имела, разумеется, ни малейшего понятия об итальянце Алигьери, изобразившем такие же душевные муки в своих бессмертных стихах. И все же, когда, измученная, преследуемая вечным страхом потерять работу, полуголодная, одинокая, как аист, гнездо которого разрушила молния, она сидела в тесной, холодной, едва освещенной кухоньке, облокотившись о стол и, как все несчастные люди, покачиваясь из стороны в сторону, то неведомо для себя самой она высказывала мысли Алигьери собственными своими словами — строфой из песенки, которой ее научила в детстве мать — жена бедного садовника. Однако она не пела, а только, вздыхая, говорила, вернее бормотала:
Ой, доля моя, доля,
Что с тобою сталось?
В реке ли утонула,
С ветром ли умчалась?
— В воде утонула, ой, в воде, в воде утонула моя доля!..
За печкой слышался какой-то шорох, сонный голос что-то бормотал. Измученная женщина срывалась с места, хватала лампу и подбегала к печке, за которой на полу лежал сенник, а на нем спал довольно большой уже мальчуган с бледным красивым лицом и густыми растрепавшимися черными кудрями. Ребенок в грубой рубашонке, распахнутой на груди, спал как убитый, крепко стиснув кулачки и высунув босые ноги из-под какой-то старой суконной тряпки.
Женщина склонялась над спящим мальчиком и, освещая лампой его лицо, любовалась им, слезы ее тогда быстро высыхали и глаза светились восторгом.
Проходили годы… Ей стало немножко полегче. Как ей удалось овладеть кулинарным искусством, если ее никогда этому не учили? Никто не смог бы ответить на такой вопрос, даже она сама. Правда, вначале из-за своей неопытности Романо́вой пришлось переменить мест десять, но она тут кое-что усваивала, там что-то смекала или соображала, иной раз догадывалась, — из книжки она почерпнуть ничего не могла, ибо была неграмотна. Да, читать она не умела, да и вообще ничего не умела. Тем не менее, кое-как усвоив кулинарное искусство, она стала получать работу в зажиточных домах на лучших условиях, у людей более культурных и отзывчивых.
К тому времени Михал уже подрос и начал ходить в городскую школу. Ему выпало исключительное счастье: он познакомился с паном Хлевинским — самым лучшим мастером каменщиком во всем городе. Мастер Хлевинский удостоил своим посещением крестины у гончара, только снизойдя к нему с высоты своего величия: ведь он был уже важной персоной, ходил в щегольском сюртуке, носил часы на серебряной цепочке и был владельцем двух домов, хотя и деревянных, но собственных. В одном из них помещалась его квартира, в которой была даже гостиная с диваном и занавесками на окнах. Тем не менее он продолжал деятельно заниматься своим ремеслом, дававшим ему изрядный доход. К этому прославленному мастеру Романо́ва пристала, как с ножом к горлу, ходила за ним по пятам, просила, умоляла, с неистощимым пафосом рассказывала историю своей жизни, отправилась даже к его жене, поцеловала ей руку и в конце концов добилась своего. Мастер взял Михалка к себе в ученики. В пылком воображении Романо́вой сын уже рисовался в дорогом, как у Хлевинского, сюртуке, она даже видела его владельцем двух собственных домов. Поздними вечерами, когда она сидела одна в полутемной кухне, ее взору представлялся, как живой, высокий красавец ямщик в длинном черном армяке с красным кушаком, и она со слезами на глазах и со счастливой улыбкой говорила ему: «Вот видишь, как я сынка нашего вырастила, как прекрасно устроила его! Тебе не суждено было дождаться собственной хаты, так пусть достанется она ему!»