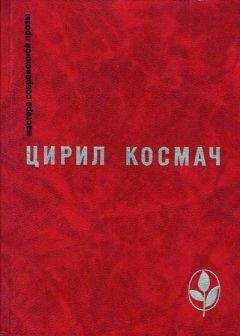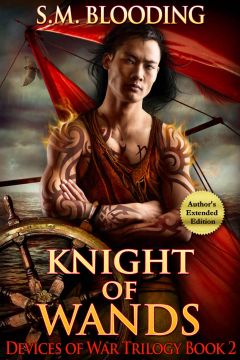Якоба распутство дочерей тревожило, хотя и недолго. Постепенно он привык, и ему стало казаться, что ничего дурного не происходит. Как-то одна из соседок намекнула, что надо бы лучше смотреть за дочерьми. Он удивился. Зачем смотреть? Что еще за забота? У него в доме все по-старому. Но ему сделалось не по себе. А когда в воскресенье Якоб послушал проповедь священника о родителях, пренебрегающих родительским долгом, облизал усы и понял, что дома и вправду не все ладно. Остаток дня он был особенно молчалив, а вечером, в разгар веселья, поднялся с постели и пошел в кухню с твердым намерением солдат разогнать, а дочерей отправить спать. Он пылал благородным гневом, однако, открыв дверь и ступив на порог, сухой, длинный, в холщовых подштанниках, с палкой в руке, не смог вымолвить ни слова.
— Чего вам, отец? — удивилась Нанца.
— Ничего… так… попить бы, — пробормотал он.
— Э, папаша, зачем пить воду? — хором закричали солдаты и повскакали со своих мест. — У нас есть кое-что покрепче. В твои годы кровь небось уже стынет, иди, погрейся!
— Да, да, правда ваша, стынет, — согласился Якоб, выпил две чарки и ушел. Покачивая головой, сел на постель, примостил палку между колен. Вдруг его точно обожгло. Он рванулся к двери, широко распахнул ее, раскрыл рот — и стукнул палкой об пол. Потом махнул рукой и ушел назад, в темноту. В кухне захохотали.
Старик лег, укрылся с головой и зашептал:
— Боже и святой крест божий, на все твоя воля, будь что будет.
Но успокоить совесть не удалось, а водка жгла ее еще сильнее.
— Я всему виною, — ругал он себя вслух, — да, да. Продаю их за водку. Эх, чтоб мне гореть в адском огне, чтоб он меня пек, как это зелье, да… да. И на то божья воля.
И все осталось по-прежнему. Утром Нанца приносила ему в постель кофе с молоком и кусок белого хлеба. Якоб, перекрестившись, принимался за еду. Никогда ему так не жилось. Он вставал, одевался. В кухне его обступали солдаты.
— Выпей, отец, — совал ему каждый свою фляжку, — глоточек за счастливый денечек!
Якоб залпом выпивал три-четыре стопки, ощущая, как водка приятно ударяет в голову, утирал рукой усы и довольно кряхтел:
— Хе-хе-хе.
Потом усаживался на колоде покурить трубку или шел на пасеку. Ульи кружились перед глазами, рот старика растягивался в горькой усмешке.
— Ох, господи, — бормотал он, — что поделаешь, война.
Хуже приходилось Анце. С ней никогда никто не считался, и, не попадись ей такой терпеливый муж, в доме все бы шло вверх дном. Но Якоб молчал, и жизнь текла мирно. До войны раза два-три в год, напившись, он осмеливался поднять голос и стукнуть палкой об пол, теперь же, будучи постоянно навеселе, стал куда покладистее.
Анца была разбита параличом. Спала она в доме, утром Острич и Кикич вместе с подушками выносили ее во двор. Она капризничала, пила черный кофе, нюхала табак, отчего нос у нее всегда был забит, дышала ртом, в груди хрипело. Говорила она задыхаясь и поминутно звала Нанцу.
— Нанца, Нанца!
— Чего вам? — подходила Нанца.
— Модриянова Лиза, слышь, затяжелела. От кого бы это? Хе! От Плазара, говорю тебе, от Плазара, когда он приходил на побывку. Почему он к нам не зашел? А Кристина, Наврахарева Кристина, а она? Что? Нет? Почему нет? Почему? — выпаливала старуха.
Нанца, высморкавшись в передник, отвечала:
— Некогда мне, потом приду.
— Как некогда? Чтоб у дочери не нашлось минуты для больной матери! Видано ли такое, а? — визжала старуха.
Нанца возвращалась в кухню и, усевшись к Остричу на колени, говорила:
— И когда господь избавит нас от этого наказания?
Анца не унималась, жаловалась, что ее хотят извести, кричала, чтобы позвали майора, обера, священника, жандармов. Подле нее сидела четырехлетняя Кристиница и липовой веткой отгоняла мух.
Так сытно и беззаботно прошли почти два года. Наступил семнадцатый год, и господь перестал посылать манну. Теперь солдаты прятали хлеб, стол из кухни вынесли. Настали тяжелые времена. Нанца и Кати были беременны. Утром они молча подымались, меняли белые платки на черные и уходили в село выпрашивать корки хлеба и молоко для детей. Дома оставались мать и Кристиница. Лежа в постели, они листали старый календарь. Когда попадалась картинка с толстым смеющимся малышом, указывающим длинным пальцем на часы, Кристиница, исхудавшая так, что от нее остались кожа да кости, говорила:
— Видно, бабуся, ему не хочется есть, не то бы он так не смеялся.
Старуха обнимала ребенка, к глазам ее подступали слезы.
Боснийцы уже не играли в карты. Хосу не получал пухлых посылок от дяди. Тасич бросил свою домру в печь, украдкой ел хлеб и стал еще молчаливее. И работал молча или злобно ругаясь. Вскоре его придавило упавшим деревом. Когда принесли расплющенное тело, Кристиница кинулась к матери, вцепилась прозрачными ручонками и подняла заблестевшие черные глаза:
— Мама, а кому теперь достанется хлеб дяди Тасича?
Кристинице он не достался — его съели солдаты. У девочки началась золотуха, и, хотя ей надели золотые сережки, а на шею повесили на шнурке три золотых колечка, поили молоком с молотым липовым углем, окуривали дымом осиных сот, спасти ее не удалось. Детский организм был подорван. Священник прислал ей ломоть белого хлеба, Кристиница схватила его и, улыбаясь, прижала к себе. Глаза ее закрылись.
Солдаты ушли. Нанца и Кати родили. Появились итальянцы, поставили в центре села полевую кухню, варили рис и макароны. Франчек и Венчек ходили к ним с большим горшком, а потом до позднего вечера бегали по селу.
Служили благодарственный молебен «За счастливое окончание мирового побоища». В церкви не протолкнуться. Священник торжественно ступил на амвон. Он опять ничего не боялся, на лице появилось прежнее выражение уверенности сельского владыки. Паства снова принадлежала ему. Прочитав молитву, начал проповедь:
— Дорогие чада мои, господь бог помиловал слуг своих недостойных, отвел от них меч войны. Преклоним колена и возблагодарим господа из глубины сердца. Страшный сей мор не обошел и нас. Пали смертью храбрых Йозеф Кривец, Иван Куштрин, Мартин Лапаня, Франц Хвала, Андрей Клеменчич и Антон Водрич. Пропал без вести Жеф Обрекар. Добрый и богобоязненный был человек и детей своих воспитывал в страхе божьем.
Нанца, узнав, что мужа считают пропавшим без вести, нашла в этом свое оправдание. Когда священник упомянул о полной греха жизни, о падении нравов, вызванном войной, она опустила голову, а когда он поведал, что война — обширное поле, с которого сатана собрал урожай в много тысяч дунг, потом, возвысив голос, напомнил, что милосердие божье неисчерпаемо, что все женщины, оскорбившие мужей дурным поведением, должны вымолить прощение сперва у бога, потом у своих обманутых мужей, Нанца залилась слезами. Ей от всей души захотелось увидеть Жефа. Она бросилась бы перед ним на колени, умоляла бы, чтоб он ее не убивал, а Жеф, конечно, поднял бы ее с колен и простил. Встань, сказал бы он, ибо все мы грешники.
Священник сошел с амвона. Старый хромой органист никак не мог отыскать ногами нужные педали. Наконец орган заиграл. Стекла очков органиста словно бы помутнели, и две слезы упали на слова «Те Deum»[1] и «Velicastno»[2].
Жеф бросился вон из дома. Пол в сенях заскрипел, закачались каменные ступеньки. Он уперся в колоду и только здесь перевел дух. Уставившись на тупые носки грязных сапог, стянул засаленную фуражку, поплевал на мозолистые руки и потер вспотевшую лысину. Злость и жажда мести сменились горькой обидой и растерянностью. Однажды, когда он был еще сопливым мальчишкой, хозяин избил его за то, что он небрежно бросил картофельную кожуру на стол и «дар божий» упал на пол. Жеф убежал, до вечера прятался на пастбище — придумывал, как отомстить хозяину. Готов был даже повеситься. Та же мысль пришла ему в голову и сейчас. Может, хоть тогда отдохнет. Несколько минут он тешил себя этой картиной.
«Ха! Вот и веселитесь потом», — подумал он и потер руки. Губы расползлись в злорадной ухмылке.
Жеф нахлобучил фуражку, снял ремень и пошел к груше. Потянулся, пытаясь ухватиться за сук, но не достал. Тогда он подтащил к дереву тяжелую колоду, взобрался на нее и закинул ремень на сук. Ветка склонилась, и ему за шиворот упали холодные капли воды. Жеф тряхнул головой, сжал кулаки и, глядя в небо, процедил:
— Будьте вы прокляты, не повешусь!
Заскрипела дверь, на пороге показался Якоб в исподнем. Он открыл было рот, чтобы закричать, но лишь потыкал палкой о каменные ступеньки. Жеф спрятался за угол дома. Открылось окно, высунулась Нанца:
— Куда он подался?
Якоб показал палкой на гору. Даже не оглянувшись на фыркающих лошадей, Жеф садом вышел на широкую расхлябанную дорогу над рекой.
— Испугались, проклятые, — кипел он, жалея, что они не видели, как он собирался вешаться. — Вот крику было бы, руки б ломали от горя.