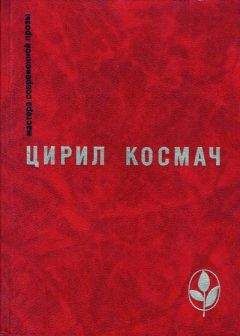— Вот как? А когда? — спросил я.
— Во время капитуляции Италии. Наши поймали его и не сносить бы ему головы… Конечно, его все равно нет в живых, только погиб он как наш, как партизан. А мог умереть последним негодяем, если бы Обрекар и Фра Дьяволо не заступились за него…
— Кто-то?
— Фра Дьяволо, — с гордостью повторила тетя. — Впрочем, — она усмехнулась, — ты этого знать не можешь, ведь тебя не было дома. Фра Дьяволо — это партизанская кличка дядюшки Травникара. Ведь ты его помнишь? Его еще называли Ейбогу.
— Ейбогу! — воскликнул я, внезапно увидев в зеркале своей памяти дядюшку Травникара — волосатого, бородатого и усатого гиганта, сельского громовержца. Он был добряком, хвастливым добродушным добряком. Сын богатого крестьянина, он после смерти отца не захотел остаться дома, чтобы не быть батраком у старшего брата. Уехал в Боснию, где до начала первой мировой войны рубил лес. Домой вернулся лишь через год после войны. Оказалось, он служил не у Франца Иосифа, а был у четников, о чем рассказывал днем и ночью. Может, поэтому он и не брился. Работать не очень любил. Слонялся по деревне, сидел в корчме у «Моего Иисуса» и диванил[5], как он теперь выражался. Диванил, разумеется, только о Боснии, о Санджаке и Черногории, поэтому скоро все село узнало об этих героических краях. Он бы и дальше диванил, если бы молодая Травникарица не угадала его слабое место: она почувствовала, что этот дикий человек, способный говорить лишь о ружьях и саблях, любит детей, и ловко и быстро укротила его, превратив в отличную няньку.
— Нет ничего странного в том, что он стал партизаном, — заметил я.
— Да еще каким! — горячо откликнулась тетя. — С осени сорок первого он исчез. Из села самым первым. Вот так, и бороду потом сбрил — уж очень он злился на четников.
— А почему его назвали Фра Дьяволо?
— Почему? Ты, конечно, не помнишь старого священника Чари. В прежние времена, перед первой войной, тогда он был еще крепкий, чуть разозлится, поминает какого-то Фра Дьяволо. Говорят, это ария такая из оперы о разбойнике[6]. А когда Чари погиб, эту арию стал напевать Травникар. Как будто получил в наследство. И напевал он ее все время. Скорее всего, и в партизанах тоже, поэтому его так и окрестили. А кличка эта очень ему подошла; говорят, дьявол был, не солдат. Вот он-то и наставил Дрейца на путь истинный.
— Как так?
— Потерпи, расскажу. Началось это, как убили Смукача, которого всем нам было очень жалко. Борис плакал целый день. За хлевом, под старой грушей, выкопал яму. И уж коль скоро я оказалась там, пошла, как говорится, на похороны. Борис положил пса в яму, погладил, а потом повернулся к Обрекару. «Дедушка, ведь правда, — спросил он, — Смукач тоже был партизаном?» Обрекар вытер мальчику слезы и решительно подтвердил: «Был! Люди стали такими собаками, что собаки вынуждены погибать, как люди!» Да ведь твоего Пази тоже застрелили, — произнесла тетя изменившимся голосом и посмотрела на меня.
Я вспомнил нашего доброго Пази, волкодава, которого карабинеры застрелили пятнадцать лет назад, когда я вернулся из римской тюрьмы домой под надзор полиции. Карабинеры говорили, что он лает за пять минут до их прихода и благодаря этому я могу спрятать все недозволенное. Пази мы тоже похоронили.
— Да, такие они были. Даже собакам жить не давали! — воскликнула тетя. — Давай, я расскажу дальше. Уже на следующий день Дрейц, совершенно удрученный, приплелся к Обрекару и попросил, чтобы тот переправил его к партизанам. Ясное дело, Обрекар ему не поверил. Но Дрейц не отступал. Сел во дворе на колоду и с места не сдвинулся, пока Обрекар все до тонкости не обдумал. Понял, что от него не отвязаться, и отвел к Травникару, пусть там разберутся. И Травникар взял его в оборот. Скорее всего, очень крепко. Но зато преобразил. Потом он умер у него на руках…
— Кто? Дядюшка Травникар? — прервал я ее.
— Нет! Дядюшка еще тебя переживет! Дрейц умер на руках у Травникара…
Тетя вытерла лицо передником и тихо сказала: «Говорят, он вынужден был его застрелить… потому что его нельзя было спасти…»
Я промолчал. Зато по телу побежали мурашки и тетя это заметила.
— Да, — сказала она, — страшные вещи случались. Этот коловорот всех нас закрутил. У каждого своя история, — и у того, кто мертв, и у того, кому удалось выжить…
— У каждого, — согласился я и с интересом посмотрел на старые стенные часы, в полумраке горницы они вдруг слишком громко застучали свое тик-так, тик-так, тик-так.
Тетя тоже на них посмотрела.
— Они многое видели и многое могли бы рассказать, если б умели говорить. — Она подошла к часам и осторожно подвела их. Потом передвинула стрелку на пять делений вперед и снова вернулась к столу. Села, скрестив руки, и когда я на нее посмотрел, смущенно улыбнулась.
— Видишь, куда меня занесло? — спросила она. — Совсем потеряла нить. Так на чем мы остановились? Ага! Я рассказывала про весенних поросят. Пошли, значит, они: Обрекар, Борис и Смукач — на Облакову вершину, а вернулись и без поросенка и без денег. Это было весной сорок второго. Потом Обрекар любил рассказывать, что было после его возвращения. «Поставил я рюкзак в сенях, в угол, вхожу в кухню. Старуха оглянулась. «А где поросенок?» — спрашивает. «А у меня его нет», — отвечаю. «А почему?» — говорит и сует половник в поленту. «Да они еще не подросли», — говорю. «А когда подрастут?» — говорит. «Через неделю», — говорю. «Тогда и пойдешь?» — говорит. «Пойду, — говорю, — конечно пойду», — и смеюсь». Так он рассказывал, со своим вечным «говорю»… А на следующей неделе, в самом деле, пошел. И его вовсе не нужно было заставлять. Но поросята все еще не подросли. А потом он зашел к нам. Я и сейчас вижу, как он, согнувшись в три погибели, приковылял в наш сад. Дело было к вечеру. Отец… наш… колол дрова, а я чистила салат на ужин, мы кормились тогда одним салатом да полентой. Больше никого в доме не было. Обрекар сел и принялся рассказывать о поросятах, об Облаковой вершине, где, мол, нет фашистской сволочи. Потом что-то забормотал. Я уловила, что он упомянул Травникара; а он умолк, вытер пот со лба и снова заговорил о чем-то совсем уже невразумительном. Я знала, он что-то скрывает, не решается сказать. И на меня нет-нет исподлобья зыркнет. От этого взгляда мне и сейчас холодно делается. Он мне не верил. Позже сам признался. «Не обижайся, Анна, — сказал он, — тогда ты и дневала, и ночевала у священника. А про нашего священника всем известно, какого он цвета». Это правда, я ходила в дом священника, но чтобы дневать и ночевать, это уж слишком! Тут мне можешь поверить.
Я решительно кивнул в знак согласия. Тетя вытерла передником потный лоб и продолжала:
— Я тебе говорила, что Обрекар мне тогда не верил. Он встал и, сказав, что хочет посмотреть орех, тот, который на уступе скалы, завернул за хлев. Отец… наш… пошел за ним. Долго о чем-то беседовали… А на следующую субботу вместе пошли на Облакову вершину за весенними поросятами. Не с пустыми руками пошли: с кукурузной мукой, фасолью, с разными мелочами… На обмен, как они сказали… Так это у нас началось… Потом отец всех нас взял в оборот, а меня особенно. Научил уму-разуму… Обрекар тоже рассказал жене, что делается на Облаковой вершине. «Вначале нахмурилась, сердитая была, — рассказывал он, — а когда я сказал ей, что парни голодают и что им холодно и что наши, будь они дома, наверняка были бы там, притихла. Целых два дня молчала, все шевелила и шевелила мозгами. А когда я в пятницу вернулся с пастбища, в горнице жара, как летом, хотя все окна настежь, а за окнами — середина мая. Потрогал печку: раскаленная. «Что ты делала?» — говорю. «Ничего, — говорит, берет меня за руку и ведет в комнату, как, бывало, водила смотреть на спящих детей. А там на окне — пять хлебов, только что испеченных. — Захватишь на Облакову вершину, — говорит и весело смеется. — А еще я две пары носков связала», — говорит. Я прямо не знал, что делать. Прижал ее к себе, как раньше, когда мы были молодыми и смотрели на своих спящих детей. Она в слезы, мол, наших ребят нет. «Да, их нет, — говорю я, — поэтому мы с тобой должны помогать за них». Так он рассказывал. Потом они ходили вдвоем к нашим. И Бориса брали с собой. Мальчишке было всего лет двенадцать, а он держался как взрослый. «Мальчишка будет молчать, — говорил Обрекар. — Я его хорошенько в оборот взял. «Держи язык за зубами!» — пригрозил ему. «Буду!» — кивнул он. «А если тебя схватят и начнут колотить?» — «Тоже». — «А если станут мучить?»— «Тоже». — «А если скажут, что тебя повесят?» — «Тоже!» И посмотрел на меня так, что я должен был ему поверить…» И мальчишка впрямь выдержал, все выдержал. Да я тебе расскажу… Потом Обрекар уговорил сапожника Занута, тот партизанам сапоги шил, портного Мешеле, он тоже для них работал, женщины вязали им носки, а молодые парни, которых не успели угнать в Италию, исчезали из села один за другим. Сегодня он дома, а завтра — ищи ветра в поле. И всех их Обрекар отвел к Фра Дьяволо, к дядюшке Травникару. Да ты и сам знаешь, как было. Удивительное было время! — воскликнула тетя искренне. — Я как сейчас вижу, собираются они с наступлением темноты в путь. Обрекар надевал свой рюкзак и подпрыгивал на месте.