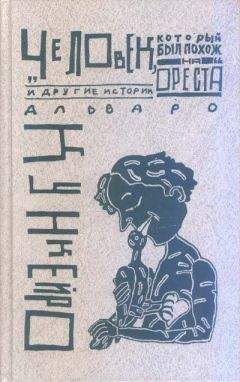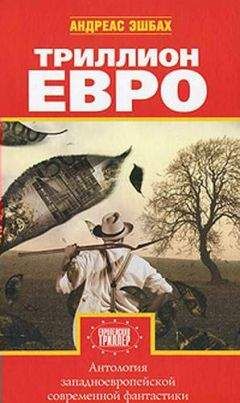У испанских авторов слово «faro» впервые встречается в 1611 году; Коваррубиас, никогда не видевший маяка, описывает его в традициях латинско-эллинских грамматик: «Башни… кои стоят у моря, ежели они крепкие и видные, зовутся faro».
Нашему филологу не довелось увидеть с моря отраженный зеркалом огонь. Что бы он сказал, очутившись ночью на палубе корабля и столкнувшись взглядом с лучом маяка где-нибудь у Экмюля, Финистерре или Коррубедо? В одной старинной галисийской песне влюбленная девушка жалуется:
О faro de Corrubedo
со seu ollar largacio,
ai amor puxome medo![7]
Мой любимый маяк — тот, что однажды летним вечером я, тогда еще мальчик, впервые увидел с палубы корабля недалеко от Фоса; это был маяк Тапия-де-Касарьего, ласкающий небеса и моря Астурии; я принял его за Бога.
Друг-фотограф дает мне снимок, сделанный им на пристани в бухте Виго. Отец (без сомнения, моряк: ноги расставлены, как будто под ним не суша, а все еще шаткая палуба боу[8]), перед тем как сесть на пароход, который отвезет их с сыном к другому берегу тихой бухты, остановился перед женщиной, торгующей конфетами, бутербродами, апельсинами и сигарами.
Малыш — словно Одиссей, запасающийся провизией под строгим отцовским взглядом. Юному герою предстоит познакомиться с кораблями и соленым морем. На пристани он еще ребенок, но океан быстро сделает из него мужчину, хотя учение будет тяжелым и многотрудным. Мальчик станет мореходом, но прежде ему надо увидеть пески иных берегов, совсем непохожих на тот, где сегодня он будет играть палочкой, что сжимает его рука, и строить эфемерные замки, которые разрушит пенная ладонь волны.
В конце концов он станет свободным человеком и, как все свободные люди, будет любить море, напоминая птиц из поэмы Малларме, которых пьянит жизнь между непостижимой пеной и небесами… Давным-давно, когда ваш покорный слуга писал рассказ о море и человеческой душе, он сочинил ритуалы первой встречи с океаном: мальчик должен попробовать воду и убедиться, что она соленая; его учат слушать, как разговаривают друг с другом ветры; на второй день он бросает в воду лимон, чтобы течение отнесло к родным берегам золотой плод, горечь которого познакомит ребенка со вкусом ностальгии…
Еще несколько лет назад, когда здоровье позволяло мне путешествовать вдоль океанских берегов, я непременно встречался со старыми моряками. Мы беседовали за бутылкой вина, любуясь Атлантикой, легкими дорнами — совершеннейшим из малых судов, построенных человеком, — и чайками. Многие рассказывали о дальних странах так, словно побывали там первыми и еще не успели нанести их на карту. Некоторые были дружны с морем, но кое-кто не доверял чудовищу. Для одних море — большое приключение, для других — обыденный труд, как где-нибудь в цехе, на берегу.
Когда я спросил одного моряка с Финистерре, встречал ли он те плавучие острова, что упоминаются в старинных преданиях морских народов, старик ответил с неподражаемым разочарованием, которое оценили бы и Одиссей, и старый Синдбад:
— Сейчас море слишком подробно описано!
Море, земля и люди глядят в небо, стремясь увидеть пришельцев из других миров и услышать о новых странах, где птицы бродят под водой, а пестрые рыбы летают по воздуху, отдыхая на ветвях деревьев. Если, конечно, в неземных странах растут деревья.
Как известно, сколько людей, столько и мнений. Те, кому удалось повстречать существа из космоса, расходятся в показаниях: одни видели худосочных гигантов, другие — приземистых толстячков; рассказывают о рогах на голове и об антеннах… В Перу из сияющего шара вылез некто с хвостом… Научная фантастика в значительной степени питается тягой к неведомым краям и загадочным островам. Прежде они существовали на земле; Эфиопия и Гвинея были синонимами недостижимых стран, где живут люди с лицом на груди или тремя ногами. Но сейчас наша планета слишком подробно описана, и на ее карте не осталось белых пятен.
Реже и реже говорят о чудовище шотландского озера Лох-Несс и об «ужасном» снежном человеке; все систематизировано, как бабочки в коллекции энтомолога или цветы в гербарии. Великолепие древней тератологии сведено к нулю. Природа совершает все меньше ошибок; теперь уже не дождаться, чтобы целое поколение рыб покинуло воды, вскарабкалось на деревья и запело птичьими голосами (о таком случае писал Итало Кальвино). С другой стороны, как и в этой истории великого итальянского писателя, всегда найдется благоразумный учитель, который скажет людям, в восхищении глядящим на удивительное зрелище:
— Не смотрите туда! Это ошибка!
И как же он не прав! Ведь из-за этих ошибок природы у нас есть соловей и голубь, жаворонок, которым я заслушиваюсь по утрам, и ласточка, что, наконец прилетев, с веселым щебетом носится по моей улице.
А вот перед нами маленький Одиссей, готовый первый раз выйти в море — галисийскую бухту, водную долину меж зеленых берегов и скалистых гор. Пятьдесят лет назад, когда я точно так же пересек море средневековых трубадуров, Мендиньо и Мартина Кодакса, волны еще хранили очарование дельфиньих игр. Теперь дельфинов уже нет. Эти друзья человека, любители пенных дорог, что остаются за кормой, исчезли и больше не вернутся. Пусть так. Но каким бы коротким ни было плавание, сердце человека всегда будет волноваться при виде надвигающегося берега. Корабль причаливает, трап подан, и ты — Одиссей, даже если сам этого не знаешь. Даже если ты всего лишь мальчик.
Я не стану рассказывать о кельтских мореходах древности — о тех, кто вышел в море у маяка Брана в Ла-Корунье и направился к берегам Ирландии, или об О’Мухе, который совершал невероятные плавания и всегда благополучно возвращался: он доставал изо рта слова в виде разноцветных шаров и клал на волны, а пустившись в обратный путь, находил шар, брал его в рот, опять делая словом, и плыл к следующему. Не стану рассказывать я и о тех, кто заключал договор с Лиром — богом или королем моря, — чтобы спокойно идти к островам вечной весны, к стране Блаженных, где мужчины и женщины не стареют, так как пьют из Ключа Молодости, весело бьющего в сердце архипелага. Наконец, о святом Брендане, отправившемся на Запад в поисках земного рая, и о святом Эрегане, что на Пасху разыскивал дельфинов, шатавшихся без дела по Атлантике, и приводил их к западной оконечности Бретани, на скалах которой высилась часовня: там он служил для них мессу. После службы дельфины уплывали, повторяя с сильным бретонским акцентом: Аминь! Аминь! Святой улыбался, и морские волны ласкали его огромную седую бороду. Так вот, сегодня я расскажу вам не о них.
Вернувшись в последний раз из Барселоны, я привез с собой книгу Жака Плевана, собравшего множество историй о крушениях бретонских, норманнских, каталонских судов у берегов Нарбонна…
Читая, что пишет Плеван о своих бретонских земляках, я встречаю имена, знакомые мне по работе над «Хроникой кантора»: тогда вашему покорному слуге пришлось рыться в бесчисленных документах и выдумывать генеалогию славных морских династий Эрки и Требуль. В книге бретонского автора появляется капитан Барбиннэ Ле Жантиль с его неизменным монокуляром под мышкой — первый француз, обогнувший земной шар и подаривший нам «Описание Китая». Завершив свое плавание, он ступил на европейский берег у галисийского города Виверо, откуда поспешил в Мадрид: шла война за испанское наследство, и капитан-генерал Галисии поддерживал австрийского эрцгерцога, в то время как бретонский моряк имел офицерский патент армии, сражавшейся на стороне Бурбонов. Гордостью капитана была пара чудеснейших ножек Бретани, завоеванных им когда-то. В книге Плевана я нахожу прекрасные гравюры и карты с золами, дующими ото всех сторон; на одной из иллюстраций — Бренн Ле Нуар, ведущий свой флот против самой Англии. Нормандцы из Гонфлера пересекли Канал 2 августа 1457 года и бросили вызов Британии. Высадившись на острове, они сожгли Сэндвич, что в графстве Кент. Упомянутый Бренн Ле Нуар самолично перерезал горло мэру Сэндвича, который отправил ему бочонок сельдей и послание на латыни с цитатами из «Энеиды» и просьбой вернуться во Францию. Нормандцы были возбуждены, так как с трудом нашли в городе выпивку: немного слабого пива и десяток бочек кислого сидра. Их опьяняла жажда — она подчас действует сильнее, чем вино, — и началась бойня. Зарезанного мэра сварили и освежевали, очистив кости от мяса, чтобы распределить их между кораблями как свидетельство победы. Капитаны, их дети и внуки хвастали своими жуткими трофеями, рассказывая о битве. Кажется, еще несколько десятилетий назад в старинных домах Гонфлера вам могли показать кость, доставшуюся в награду воинственному предку.
Перед отплытием адмирал Бренн Ле Нуар выбрал себе жену из сирот разоренного города. Чтобы не связываться обязательствами, флотоводец отказался от конкурса красоты и прибег к взвешиванию, остановившись, разумеется, на самой тяжелой из претенденток — тринадцатилетней дочери бондаря. Она подарила ему целую дюжину детей, и адмирал впоследствии удачно устроил жизнь каждого из отпрысков. Все мальчики стали моряками, а среди потомства одной из девочек была мать адмирала Колиньи, знаменитого вождя французских гугенотов.