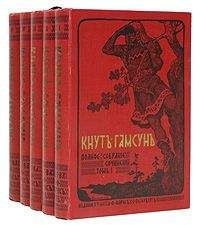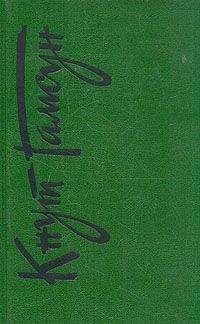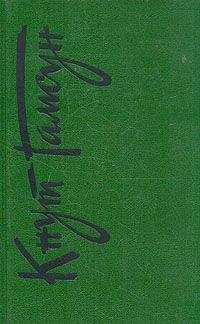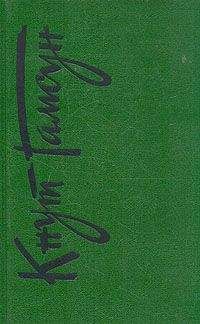На этот раз София не обижается. К такому необразованному человеку нужно относиться с состраданием.
— Несчастный! — говорит она.
— Да, я несчастный! — подтверждает он и улыбается. Наконец послышались шаги в передней, и немного спустя в комнату вошли Фредрик и Бондесен. Они, вероятно, выпили, были слегка возбуждены и наполнили всю комнату своим превосходным настроением.
— Поздравьте нас! — тотчас же крикнул Бондесен.
— Ну, правда? В самом деле удалось?
— Нет, нет, — отвечает Фредрик, — об этом мы ничего ещё не знаем. Он взял у меня рукопись.
— Я говорю вам, господа, это вполне равносильно тому, что он её возьмёт. Таков уж обычай. Я — Эндре Моор Бондесен — говорю это. Да-а!
В комнату вошла фру Илен, вопросы и ответы посыпались вперемежку.
Нет, спасибо, есть они совсем не хотят, они обедали в «Гранде», в честь события. Надо же было хоть чем-нибудь его отпраздновать. Они ещё притащили с собою бутылочку, которую предлагают попросту распить всем вместе.
Бондесен вытаскивает бутылку из кармана своего пальто.
Гойбро встаёт и собирается исчезнуть, но фру Илен уговаривает его остаться. Все оживились, пили, чокались и громко разговаривали.
— Что вы читаете? — спросил Бондесен. — Как, политическую экономию?
— Да ничего особенного, — тихо отвечает Гойбро.
— Вы, вероятно, много читаете?
— Нет, я читаю немного, не очень много.
— Да, во всяком случае вы не читаете «Газеты». Не понимаю, как человек вообще может обойтись без чтение такого органа. Но знаете что: вы с жаром утверждаете, что не читаете «Газеты», а между тем читаете её усерднее всех, как я слышал; если не ошибаюсь, я узнал об этом в одном из номеров самой газеты. Но это относилось, конечно, не к вам, Боже сохрани! За ваше здоровье! Нет, Боже сохрани, ведь это к вам не относилось, а? Скажите на милость, что вы собственно имеете против «Газеты»?
— Я, собственно, ничего против неё не имею, пусть её считают чем угодно. Я только не читаю её больше, у меня пропал к ней интерес, и она мне кажется смешной.
— Вот как! По-вашему выходит, что она совсем не руководящий политический орган? Она не имеет никакого влияния? Она, значит, меняла убеждения, обманывала и совершала разного рода низости? Разве вы когда-нибудь видели, чтобы Люнге отступил хоть на один вершок от своих убеждений?
— Нет, я этого не знаю.
— Вы не знаете. Но ведь прежде, чем говорить, надо знать, о чём говоришь. Простите.
Бондесен был в превосходном настроении и говорил громко, с оживлёнными жестами, — ничто не могло его остановить.
— Вы сегодня ездили на велосипеде, фрёкен? — спросил он. — Нет? Но вчера ведь вы тоже не ездили? Надо упражняться, у вас превосходные способности, их нужно развивать. Знаете: Вольф, как я слышал, должен играть каждый день по два часа, чтобы сохранить свою технику. Так обстоит дело и со спортом — надо каждый день упражняться.
За твоё здоровье, Илен, старый товарищ! Тебе бы тоже полезно было ездить на стальном коне. Впрочем, ты сего дня доказал, что способен на другие вещи. Да, выпьем по стаканчику за начало карьеры Фредрика Илена, за первые плоды его таланта! Ура!
Он подвинулся ближе к Шарлотте и заговорил с ней, понизив голос. Ей, в самом деле, надо почаще выходить из дому, иначе она, пожалуй, тоже примется за политическую экономию. А когда Шарлотта рассказала ему, что у неё будет новое голубое платье, он пришёл в восторг и сказал, что в своём воображении уже видит её в новом костюме, ей-Богу. О, если бы только он удостоился чести сопровождать её в этот день! Он попросил её об этом и получил согласие. Под конец они беседовали совсем тихо среди громкого разговора остальных.
Пробило одиннадцать часов, когда Бондесен поднялся, чтобы идти домой. В дверях он ещё раз обернулся и сказал:
— Смотри, Илен, следи за своей статьёй. Она может появиться на днях, даже завтра. Ты с такою же вероятностью можешь предполагать её появление завтра, как и во всякий другой день; возможно, что она уже отослана в типографию.
Но маленькая статейка о сортах ягод не появлялась ни на другой день, ни в следующие дни. Проходили недели за неделями, но дело не подвигалось ни на шаг вперёд. Статья, конечно, была забыта и погребена среди других мёртвых масс бумаги на столе у редактора.
Внимание Люнге было занято вещами поважнее сортов ягод. На ряду с двумя-тремя яростными статьями против министерства, которые появлялись в «Газете» каждый день, надо было раньше всех сообщать разного рода новости, поддерживать нравственный порядок в городе, быть всегда и всюду настороже, чтобы ничто не могло случиться втихомолку, в потёмках. Помощь, которую мог оказать старый либеральный орган «Норвежец», была очень ограничена, бедный конкурент имел мало влияние или совсем не имел его, да большего и не заслуживал: слишком уж сдержан был его тон. Бессилие «Норвежца» ярче всего проявлялось в его нападках: ни одного удара, ни одной кровавой полосы, ни одного молниеносного слова; он с большим хладнокровием излагал своё скромное суждение о различных вещах и на этом успокаивался. Когда «Норвежец» нападал на какого-нибудь человека, тот мог спокойно сказать: «Пожалуйста, бейте, сколько угодно, это меня не касается, я в это не вмешиваюсь!». А если он действительно получал удар, он, конечно, чувствовал, что находится где-то вблизи, но в глазах у него не темнело, он не терял равновесия. Редактору Люнге становилось смешно, когда он видел такое несовершенство.
Совсем не так дело обстояло с «Газетой». Люнге умел освещать вопросы ярким пламенем, он писал когтями, писал пером, которое скалило зубы; его меткие эпиграммы стали бичом, который никогда не давал промаха и которого все боялись. Какая сила и какое уменье! А он нуждался, конечно, и в том и в другом: слишком много тёмных дел совершалось в городе и по всей стране. Почему именно он был обречён на то, чтобы выводить правду на свет? Возьмём, например, этого мошенника, столяра в Кампене, который занимался знахарством за деньги и лишал легковерных бедняков их последних грошей. Какое право он имел на это? И разве не было обязанностью авторитетов решительно выступить против бродяги-шведа Ларсона, который произносил проповеди в различных местах, а сам вёл далеко не безупречный образ жизни? Да, Люнге имел о нём достоверные сведения из Мандаля, он не говорил голословно.
Со своей счастливой способностью проникать всюду, просовывать свой нос в самые узкие скважины, чтобы что-нибудь поместить в своей газете, Люнге постоянно выводил на свет Божий что-нибудь новое, гнилое; он выполнял великое дело миссионера, исполненный сознание высокого назначения печатного слова, горячий в своём гневе и в своей вере. И никогда раньше его перо не производило такой блестящей работы, которая превосходила всё, что город видел в области журналистики. Он никого и ничего не жалел в своём усердии, ибо для него личность не играла никакой роли. По поводу того, что король дал пятьдесят крон в пользу одного учреждения для бедных, «Газета» сообщила на протяжении одной единственной строчки, что король подарил «более двадцати крон беднякам Норвегии». Когда «Норвежец» счёл себя вынужденным понизить подписную плату на половину, «Газета» сообщила об этой новости под заглавием: «Начало конца». Её остроумие не щадило никого.
Людей он тоже уважал соответственно их заслугам, взоры толпы всегда обращались на него, когда он шёл по улицам в редакцию или из неё.
Совсем иначе дело обстояло в минувшие дни, давно, когда он был ещё скромен и неизвестен и редко-редко кто-нибудь удостаивал его поклоном на улице. Те дни уже прошли, холодные студенческие годы, когда надо было пробиваться вперёд самыми разнообразными, двусмысленными способами и под конец с трудом кое-как выдержать экзамен. Он был молодым и восторженным деревенским парнем, быстро усваивавшим науку и находчивым во многих затруднительных обстоятельствах, он чувствовал в себе скрытые силы, ходил с массой планов в голове, предлагал свои услуги, кланялся, получал отказ за отказом и засыпал ночью со сжатыми кулаками. Но подождите только, да, подождите, его время ещё настанет! И те, которые ждали, дожили до того, что он управлял городом и был в состоянии свергнуть министерство. Он стал могущественным человеком пред лицом всего света, имел дом и семью, превосходную жену, которая пришла к нему далеко не с пустыми руками, и газету, которая приносила тысячи дохода в год. Нужда была позади, годы лишений прошли, они не оставили ему о себе, так сказать, никакого напоминания, за исключением грубых синих букв, которые были вытатуированы у него на руках, на родине, в деревне, и которые не исчезали, несмотря на то, что он в продолжение долгих лет старался — стереть их. И каждый раз, когда он писал, каждый раз, когда он за что-нибудь брался, показывались на свет эти синие, позорные пятна — его руки были и остались грубыми.