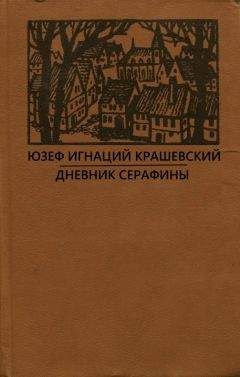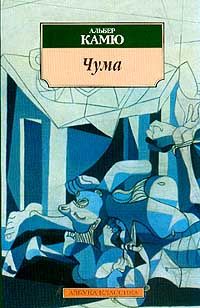Учитель математики пока еще прохаживается по коридору с учителем литературы, и класс вволю пользуется этими десятью минутами, разделяющими два урока столь же непохожих, как две разные эпохи. Летят на кафедру фуражки, заячья лапа для стирания мела, летят книжки и бумажки, шум становится все громче, все неистовей, — но вот медленно отворилась дверь и на пороге появляется невысокая, щуплая фигурка учителя; быстрыми шагами он направляется к кафедре — фуражка надвинута на уши, под мышкой книги и пачка бумаг, пальто сползло с плеч и одной полой метет пыль на полу; он идет между парт, к которым со всех сторон спешат ученики, — и вот он уже на кафедре, он господствует над классом. Буйство вмиг прекращается, как буря, стихающая от мановения Нептунова трезубца, лишь легкий шумок еще носится над партами; все уселись, учитель сложил в кучку лишние части своего туалета и запас бумаги — урок начался. На самом-то деле никто не боится доброго учителя литературы, который с деланно строгою миной, поджав губы, нахмурив брови и щуря глаза, просматривает свои бумаги и раскладывает книги, однако его доброта действует сильнее, нежели строгость многих его коллег. Вот он поднял на учеников усталые от чтения глаза, и все взгляды устремились к нему.
— Ну-с, господа любезные, кто из вас будет читать сочинение?
Наперебой поднимают руку желающие, размахивая исписанными листками; выбрать нелегко — ну, что ж, первый с краю…
Но отгадайте, какое было предложено задание? Уж такая невинная и приятная тема — просто описание весны. И кажется, кто мог бы его лучше сделать, чем эти мальчуганы, для которых она и летом и зимою цветет в их груди, полной весенних чувств! Однако, когда пришлось весну описывать, ох как трудно было! Они ведь еще времени не имели оглядеться вокруг, разобраться — ни в мире, ни в себе — и, когда учитель задал описание прекраснейшей поры года, вот уж, бедняги, намучились, ломая голову, с чего бы начать, о чем рассказать и чем закончить!
Так трудно было горемычным придумать сюжет, мысли, краски, что пришлось искать образцы, и они переворошили все, где кто-либо что-либо по поводу весны пропел, просипел или пробормотал. Томсон, Клейст, Вергилий и Гесснер,[6] а также отечественные поэты были до нитки обобраны безжалостными юными грабителями — но от ворованной добычи толку было немного.
Патетическим тоном то один, то другой читает свою стряпню, а учитель ходит по классу, поглядывая исподлобья, похваливая сквозь зубы, записывая себе что-то, слегка усмехаясь, когда уловит обрывки бесстыдно скраденных знакомых фраз. Наконец подошла очередь невысокого паренька, светловолосого, голубоглазого, одетого в поношенный, но опрятный мундирчик, и весьма робкого, — когда надо было ему читать, он весь залился румянцем, сконфузился, уронил тетрадку, долго не мог слова вымолвить и, лишь три раза сбившись вначале, принялся воспевать свою «весну».
Все до сих пор прочитанные «весны» были только поэтической прозой, эта первая явилась в рифмованном облачении, и неудивительно, что ее создатель так покраснел, слишком поздно уразумев свою дерзость. Хоть и страшился он за свое творение, да не мог противостоять желанию писать в стихах, изорвал сотню черновиков и в конце концов, набравшись храбрости, с бьющимся сердцем принес в класс плод своих восхитительных, невинных и пылких мечтаний.
А надобно заметить, что юнец этот, столь смело, по собственной воле, написавший стихами задание, которое все изложили прозой, был в школе новичком, в классе появился недавно, учитель его почти не знал, да и с товарищами он еще не освоился. Его выходка вызвала гул изумления — каждый толкал локтем соседа.
— Слышишь? Слышишь? — шумели ученики. — Вот чудеса-то, Пиончик стихи сочинил!
Его прозвали Пиончиком за румяное, всегда пышущее юной свежестью лицо.
Учитель, едва помнивший фамилию этого ученика, удивленно воскликнул:
— Что? Что там? Стихи?
— Тссс! Тсс! — зашикали вокруг.
Взор почтенного учителя с интересом и симпатией обратился к юноше — учитель подошел к его парте, оперся на ее спинку и, полуприкрыв глаза, стал слушать молча, погрузившись в задумчивость.
Но напряженное внимание класса, устремленные на него взгляды, тишина лишили бедного Пиончика остатков его и так не великой отваги — он запинался, голос его едва был слышен, и, наконец, у него перехватило дыхание. Две крупные слезы — предвестье всей будущности поэта — потекли по его пылающим щекам.
Учитель явно огорчился — возможно, он подумал, что тот, кто так ведет себя на школьной скамье, будет и в жизни беспомощен, а может, жаль ему стало беднягу; он не спеша взял тетрадь у него из рук и, поднеся ее к прищуренным глазам, стал сам вполголоса читать эту стихотворную «весну».
Пиончик же стоял под сверлящими взглядами товарищей, как у позорного столба, обмирая от запоздалого стыда и страха. Ученики перешептывались, указывая пальцами на поэта, который в эту минуту получил уже новое прозвище. Одни глядели на него с сочувствием, другие с любопытством, иные чуть ли не с завистью, и этот решительный шаг, на который отважился новичок, не рассчитав своих силушек, неотвратимо определил отношение к нему всего класса на оставшиеся годы учения.
Глаза товарищей перебегали со смущенного юноши на учителя, ища на лице старика одобрение или усмешку жалости, но ничего такого не обнаружили в чертах этого бледного, усталого лица, на котором никогда не отражалось то, что волновало душу. Учитель читал спокойно, поднеся тетрадь к самым глазам, просмотрел сочинение до конца и, возвратив его Пиончику, кивнул, переходя к следующему ученику; он не сказал ни слова, лишь окинул юного поэта беглым взглядом.
Тот сел, опустил голову, да так и просидел молча, борясь со своим волнением, до конца убийственно долгого часа.
О, не так страшно было выступить с этой злосчастной «весной», прочитать, показать доброму учителю, как после конца урока оказаться в толпе соучеников, чья насмешка разила без промаха! Когда часы пробили двенадцать и учитель под дребезжанье звонка направился к кафедре и стал собирать свои бумаги, фуражку, платок и пальто, всегда сползавшее у него с плеч, Пиончик в предчувствии ожидающей его пытки едва не умер со страху. Вслед за учителем хлынули из класса ученики, как прорвавшая плотину полая вода, и рассыпались кто куда. Но все это не спасло несчастную жертву, надеявшуюся убежать первой: поэта окружили, стали дергать за мундир, хлопать по спине, давая волю рукам и языку.
— Да здравствует наш поэт! — кричали одни.
— Слушай, Пиончик, признайся, откуда стихи стибрил! — издевались другие.
— Ишь какой умник! — вопил кто-то. — Хочет нас всех обскакать, отличиться, вот и выступает solo basso[7] со своими стишками.
— Оставьте его в покое! Видите, как покраснел, сейчас из глаз кровь брызнет.
Хорошо еще, что после двенадцати все спешили домой и некогда им было возиться с Пиончиком, но и по дороге к домам, где жили ученики, еще можно было вдоволь поиздеваться, и пятый класс, объединясь с шестым[8], проводил свою жертву до самого крыльца, немилосердно дразня Пиончика всяческими прозвищами да насмешками.
Как в школе, так и в жизни! Первое чувство большинства при виде какого-то необычного явления — это всегда злая насмешка и недоверие, увы, всякий триумф имеет своим началом мученье. Возможно, так оно и должно быть, ибо лишь тот достоин венца, у кого виски обагрила кровь, и испытание огнем — это проверка призвания и таланта. Не зная о том, бедный мальчик возлагал все свои надежды на одно это сочинение! Теперь ему предстояло переходить из класса в класс с презрительной кличкой «поэт», как с привязанным к ноге ядром, — с нею придется ему выйти в мир и принять все последствия неразумного шага, определившего в тот день всю его жизнь.
Словно предвидя, что его ожидает, Пиончик понуро шел по направлению к своему пансиону, едва слыша колкости да хихиканье товарищей, не отстававших от него; он только старался ускорить шаг, чтобы поскорей оказаться в одиночестве; сыпавшиеся на него язвительные словечки сливались в его ушах в невнятный гул — вроде шелеста сухих осенних листьев. С такою вот свитой он дошел до пансиона и поспешно юркнул в дверь, думая, что избавится наконец от насмешников.
Но и тут Пиончику уже не было покоя — его поджидал воспитатель, узнавший о его грехе от учителя, да товарищи по пансиону из разных классов, подхватившие на улице поразительную новость. Когда он вошел в пансион, все хором принялись его дразнить, а воспитатель пан Яценты, мужчина высокий, худощавый и строгий, с зачесанными назад волосами, в белом узком кожушке, из-за пазухи которого торчали табакерка да клетчатый платок, приветствовал питомца тем, что двусмысленно ухмыльнулся и пригладил свой хохол. Избегая его взгляда, бедняга поспешил прошмыгнуть в какой-нибудь уголок и спрятаться от всех.