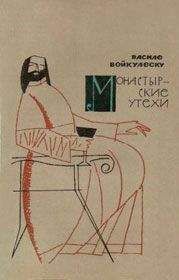разжиться пищей или хотя бы повозкой, чтобы доехать до соседнего села, к попу Макарию —
небось тот живо, в одну минуту схватит цыплёнка, обваляет его в кукурузной муке и зажарит.
— А давно ли болен батюшка? — вспомнил его высокопреподобие свои обязанности
христианина, требовавшие жалости и снисхождения к страданиям ближнего.
Женщина, которая, как соглядатай, переносила слова с улицы в дом и из дома на улицу,
смутилась и снова бросилась было бежать к попадье, когда вмешался какой-то мужчина:
— Да какой он больной, когда я его чуть свет видел здесь неподалёку, на Озёрной поляне.
Их много людей там было, задумали они косить траву. Всем миром работали, как обычно в
воскресенье. Я спросил, почему он не отложит это дело на после службы. А он говорит, как бы
потом дождь не пошел.
Протопоп от удивления рот раскрыл, у него даже пересохло в горле, и он чуть не выругался.
Тут-то и объявился как из-под земли пономарь.
— Сию минуту батюшка бежит сюда,— выпалил он, едва переводя дух.— Нас мальчонка
предупредил, что вы изволили пожаловать,— суетился он, целуя руку, вцепившуюся в палку.
— Значит, не болен он и не в больнице! Всё это ложь, а?! — скрежеща зубами, кричал протопоп.
— Да нет, больной он, только — что делать, работа не ждёт,— откликнулся пономарь.— Батюшка
едва ноги волочит. Да вот и сам он.
Поп Болиндаке еле передвигал ноги, и вид у него был виноватый; извинениями и мольбами он
склонил протопопа, всё ещё гневавшегося, смилостивиться и войти в дом, где всё и
разъяснилось. Поп был болен и ушёл на рассвете, попадья же подумала, что он — как и
собирался — в больнице. Но он не решился оставить работу, которую задумали всем миром
ещё среди недели.
— Хорошо, но служба? Ведь сегодня воскресенье! Как ты осмелился оставить народ без
божественной литургии? — гремел протопоп.
— Так ведь такое дело, ваше высокопреподобие, я-то всё равно не могу служить, едва на ногах
стою,— ответил греховодник.— Сговорился было тут с отцом Митрофаном, из монастыря,
чтоб он за меня отслужил. Ему и поминания принесли, и ладану да ещё полтора лея посулили.
Разве могло мне в голову прийти, что он не сдержит слова! — стонал поп, ломая руки.— Кабы
знать, я всё равно стал бы служить, даже если бы упал прямо в алтаре...
— Почему вечор не сзывал на службу?
— Так ведь я — сами изволите видеть — сильно больной был!
— А звонарь?
— Звонарь (которого здесь не было, и поэтому о нём говори что душе угодно), звонарь напился и
позабыл.
Туда-сюда, в общем, поп повернул дело так, что виной всему — отец Митрофан из монастыря,
он-то и должен быть в ответе и искупить прегрешения. А так как еда не была ещё готова —
попадья ведь тоже хворала,— то отцу Болиндаке удалось направить стопы протопопа в
монастырь, он был неподалёку, куда они и попадали как раз к обеду. У монахов за оградой
пруд, и они варят чорбу из рыбы и подают сарамурэ[3] с перцем — оближешь пальчики!
И чтобы замолить все свои грехи, поп Болиндаке, исцелённый чудесным образом от
соприкосновения с его высокопреподобием, запряг свою прекрасную белую кобылу. Кобылу
звали Лиза, и была она знаменита на всю округу, а сам поп на неё молился. Он держал её
взаперти, за семью замками, будто наложницу, и берег как зеницу ока. Запрягая кобылу, он
рассказывал его высокопреподобию, как воры раза три или четыре пытались её выкрасть. Вот и
на прошлой неделе взломали конюшню. С тех пор при ней в яслях спит сторож.
И в самом деле, кобыла была отменная: тонкая, нервная морда, глаза большие, горящие и
умные, нос словно точеный, дрожащие ноздри, шея напруженная, как тетива, мощная грудь
выпячена, живот подтянут, бабки тонкие, точно перетянутые, и маленькие копыта, которыми
она то и дело била в нетерпении. На ходу корпус её будто вытягивался, и она распластывалась,
что борзая. Одно удовольствие было смотреть с козел, как играла она мускулами крупа —
ровно танцевала и бежала будто своей волей...
— Но-о, Лиза! — любовно понукал её поп.— У воров она всегда на примете. Да и я не плошаю:
если что — она и со мною в комнате поспит,— исповедовался Болиндаке протопопу.— Потому
что днём ворам из-за детей дорога заказана. У меня детишек пока что семеро. Выходит, помимо
меня, четырнадцать глаз и ещё четырнадцать ушей.
— Ну, с разбойниками ты не связывайся,— насторожился старик.— Вот хотя бы теперь — едешь
один. Нет чтобы взять с собою мальчонку.
— Э, если богу угодно, ещё засветло будем дома. Перекусим немного — к тому-то времени
попадья уж чего-нибудь приготовит — да и спать, а завтра в котором часу велите, ваше
высокопреподобие, будем где пожелаете.
— Да где ж ещё? У отца Георге...
— У отца Георге, в Скулени? Чего проще! Туда езды не больше часу с половиной. — И мысленно
он сказал себе: «Ну, я ему, отцу Георге, тоже приготовлю гостинец, какой мне этот негодник
поп Влад преподнёс.— И поп послал проклятие своему неверному собрату.— Пускай ему
протопоп как снег на голову свалится, да и этому старому хрену будет наука, чтоб не совался к
людям без предупреждения...»
Обогнув дубовую рощу, спустились в ложбину и взяли направо по проселку, заросшему по
обочинам кустами шиповника в цвету, увитыми хмелем и чудо-цветом. Вдали, защищённый со
всех сторон холмами, засаженными виноградом, выглядывал из-за зелени монастырь: белый
ковчег — церковь — в хороводе келий.
Здесь новая нежданная напасть. Тяжелые ворота из тёсаного дуба на замке. Постучал поп
концом хлыста, постучал протопоп — ещё нетерпеливее своим посохом, звали, звали, кричали,
кричали, даже бросали камни — никого. Ну просто мёртвое царство. Поп уж надежду потерял
сунуться со своей белой кобылой и красной камилавкой протопопа в ворота и повернул вдоль
высокой, точно крепость, монастырской стены до заднего проулка, через который проносили
сено, проезжали телеги с дровами, подвозили бочки с вином к погребку. Здесь они нашли
решётку из тонких планок, тронешь пальцем — откроется.
И вот они уже во дворе, и на них, шатаясь, надвигается отец привратник в заплатанном кафтане
и монашеском клобуке на взъерошенных волосах, готовый их растерзать. Счастье ещё, что в
каждой руке у него по оплетённой полной бутыли, а на голове — третья, и того тяжелее.
— Чего вам здесь надо, воровское отродье!
Протопоп покраснел как рак и поднял посох наподобие щита. Поп схоронился за спиной
кобылы.
Но тут как раз у входа в погреб, что под монастырской гостиницей, показался игумен Иоасаф,
который, едва завидев протопопа, подбежал к нему, обнял и радостно поцеловал в лоб, в
подбородок и в плечи — точно крестом осенил. Был отец Иоасаф очень весел, и от него пахло
добрым вином. Увидев такое, показался и поп из-за кобылы и тоже удостоился
крестообразного приветствия поцелуями.
— Пожалуйте наверх! — И хозяин повёл их чуть ли не в обнимку.
— Отец протоиерей пойдет. Мне-то нельзя,— сказал священник, озирая двор.
— Почему?
— Я кобылу одну не бросаю, украдут её. Пока не найду, где её запереть или человека какого-
нибудь посторожить, мне нельзя ступить и шагу.
— Ничего, батюшка, это я устрою.
И игумен приказал отцу привратнику не отходить от животного, ибо ответит за него головой.
Через мгновение они уже поднялись в гостиницу.
— Вы ели?
— Какое! Умираем с голоду. — Протопоп раскрывал рот, как рыба, выброшенная на берег.
Игумен ударил в ладоши.
— Принесите нам закуски... Не посетуйте, вы застали нас врасплох,—оправдывался он. — Мы
сами тоже не ели. Вот уже три дня, как мы разливаем вино в погребе — май месяц, и оно,
проклятое, забродило, и так в трудах мы позабыли о нуждах телесных.
— Служили сегодня? — озабоченно спросил протопоп.
— Там, внизу, в погребе,— со святой невинностью ответил игумен,— ведь бог не в одном только
месте, он повсюду.
— Да как же это так?!
— Прочли несколько молитв и поклонились смиренно.
— Среди бочек?
— Бочки, они тоже драгоценную кровь Христову сохраняют,— разъяснил игумен.
Протопоп, оторопев, не сказал ни слова... тем более что прибыли закуски. Удивление он
проглотил вместе с несколькими кусками сыра. Затем воспоследовали крутые яйца, нарезанные
ломтиками, копчёный окорок, пастрама из ягнёнка, брынза, свежее масло, копчёности, свиная
колбаса с чесноком... И всё это омывалось цуйкой из садов святого монастыря.
По мере того как протопоп утолял голод, мягчал и его гнев, который, видно, возрос от пустоты