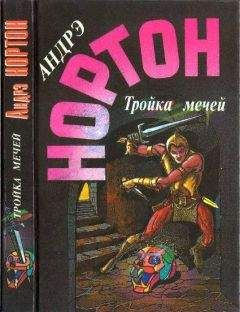И всё-таки разговор сорвался с дорожки. Кто-то вспомнил Рождество сорок четвёртого года, пять лет назад, тогдашнее наступление в Арденнах, которым немцы единодушно гордились как античным: побеждённые гнали победителей. И вспомнили, что в тот сочельник Германия слушала Геббельса.
Рубин, одной рукой теребя отструек своей жёсткой чёрной бороды, подтвердил. Он помнит эту речь. Она удалась. Геббельс говорил с таким душевным трудом, будто волок на себе все тяготы, под которыми падала Германия. Вероятно, он уже предчувствовал свой конец.
Обер-штурм-банн-фюрер-SS Райнгольд Зиммель, чей длинный корпус едва умещался между тумбочкой и сдвоенной кроватью, не оценил тонкой учтивости Рубина. Ему невыносима была даже мысль о том, что этот еврей вообще смеет судить о Гёббельсе. Он никогда не унизился бы сесть с ним за один стол, если бы в силах был отказаться от рождественского вечера с соотечественниками. Но остальные немцы все непременно хотели, чтобы Рубин был. Для маленького немецкого землячества, занесенного в позолоченную клетку шарашки в сердце дикой беспорядочной Московии, единственным близким и понятным здесь человеком только и был этот майор неприятельской армии, всю войну сеявший среди них раскол и развал. Только он мог растолковать им обычаи и нравы здешних людей, посоветовать, как надо поступить, или перевести с русского свежие международные новости.
Ища, как бы выразиться подосадней для Рубина, Зиммель сказал, что в Райхе вообще были сотни ораторов-фейерверкеров; интересно, почему у большевиков установлено согласовывать тексты заранее и читать речи по бумажкам.
Упрёк пришёлся тем обидней, чем справедливей. Не объяснять же было врагу и убийце, что красноречие у нас было, да какое, но вытравили его партийные комитеты. К Зиммелю Рубин испытывал отвращение, ничего больше. Он помнил его только что привезенным на шарашку из многолетнего заключения в Бутырках — в хрустящей кожаной куртке, на рукаве которой угадывались споротые нашивки гражданского эсэсовца — худшего вида эсэсовца. Даже тюрьма не могла смягчить выражение устоявшейся жестокости на лице Зиммеля. Именно из-за Зиммеля Рубину было неприятно прийти сегодня на этот ужин. Но очень просили остальные, и было жалко их, одиноких и потерянных здесь, и отказом своим невозможно было омрачить им праздник.
Подавляя желание взорваться, Рубин привёл в переводе совет Пушкина кое-кому не судить свыше сапога.
Обиходчивый Макс поспешил прервать нарастающую схватку: а он, Макс, под руководством Льва, уже по складам читает по-русски Пушкина. А почему Райнгольд взял торт без крема? А где был Лев в тот рождественский вечер?
Райнгольд прихватил и крем. Лев припомнил, что был он тогда на наревском плацдарме, у Рожан, в своём блиндаже.
И как эти пять немцев вспоминали сегодня свою растоптанную и разорванную Германию, окрашивая её лучшими красками души, так и у Рубина вдруг разживились воспоминания сперва о наревском плацдарме, потом о мокрых лесах возле Ильменя.
Разноцветные лампочки отражались в согретых человеческих глазах.
О новостях спросили Рубина и сегодня. Но сделать обзор за декабрь ему было стеснительно. Ведь он не мог себе позволить быть беспартийным информатором, отказаться от надежды перевоспитать этих людей. И не мог он уверить их, что в сложный наш век истина социализма пробивается порою кружным искажённым путём. А поэтому следовало отбирать для них, как и для Истории (как бессознательно отбирал он и для себя) — только те из происходящих событий, которые подтверждали предсказанную столбовую дорогу, и пренебрегать теми, которые заворачивали как бы не в болото.
Но именно в декабре кроме советско-китайских переговоров, и то затянувшихся, ну и кроме семидесятилетия Хозяина, ничего положительного как-то не произошло. А рассказывать немцам о процессе Трайчо Костова, где так грубо полиняла вся судебная инсценировка, где корреспондентам с опозданием предъявили фальшивое раскаяние, будто бы написанное Костовым в камере смертников, — было и стыдно и не служило воспитательным целям.
Поэтому Рубин сегодня больше остановился на всемирно-исторической победе китайских коммунистов.
Благожелательный Макс слушал Рубина и поддерживал кивками. Его глаза смотрели невинно. Он был привязан к Рубину, но со времени блокады Берлина что-то стал ему не очень верить и (Рубин не знал), рискуя головой, у себя в лаборатории дециметровых волн стал временами собирать, слушать и опять разбирать миниатюрный приёмник, ничуть не похожий на приёмник. И он уже слышал из Кёльна и по-немецки от Би-Би-Си не только о Костове, как тот опроверг на суде вымученные следствием самообвинения, но и о сплочении атлантических стран и о расцвете Западной Германии. Всё это, конечно, он передал остальным немцам, и жили они одной надеждой, что Аденауэр вызволит их отсюда.
А Рубину они — кивали.
Впрочем, Рубину давно пора была идти — ведь его не отпускали с сегодняшней вечерней работы. Рубин похвалил торт (слесарь Хильдемут польщённо поклонился), попросил у общества извинения. Гостя несколько позадержали, благодарили за компанию, и он благодарил. Дальше настраивались немцы вполголоса попеть песни рождественской ночи.
Как был, держа в руках монголо-финский словарь и томик Хемингуэя на английском, Рубин вышел в коридор.
Коридор — широкий, с некрашеным разволокнившимся деревянным полом, без окон, день и ночь с электричеством — был тот самый, где Рубин с другими любителями новостей час назад, в оживлённый ужинный перерыв, интервьюировал новых зэков, приехавших из лагерей. В коридор этот выходила одна дверь с внутренней тюремной лестницы и несколько дверей комнат-камер. Комнат, потому что на дверях не было запоров, но и камер, потому что в полотнах дверей были прорезаны глазки — застеклённые окошечки. Эти глазки никогда не пригожались здешним надзирателям, но заимствованы были из настоящих тюрем по уставу, по одному тому, что в бумагах шарашка именовалась «спецтюрьмой №1 МГБ».
Через такой глазок сейчас виден был в одной из комнат подобный же рождественский вечер землячества латышей, тоже отпросившихся.
Остальные зэки были на работе, и Рубин опасался, чтоб его на выходе не задержали и не потащили к оперуписать объяснение.
В обоих концах коридор кончался распашными на всю ширину дверьми: деревянными четырёхстворчатыми под полукруглой аркой, ведшими в бывшее надалтарье семинарской церкви, теперь тоже комнату-камеру; и двуполотенными запертыми, доверху окованными железом (эти, ведшие на работу, назывались у арестантов «царские врата»).
Рубин подошёл к железной двери и постучал в окошечко. С противной стороны к стеклу прислонилось лицо надзирателя.
Тихо повернулся ключ. Надзиратель попался равнодушный.
Рубин вышел на парадную лестницу старинной постройки с разводными маршами, прошёл по мраморной площадке мимо двух старинных, теперь уже не светящих, узорочных фонарей. Тем же вторым этажом вошёл в коридор лабораторий. В коридоре толкнул дверь с надписью: «АКУСТИЧЕСКАЯ».
Акустическая лаборатория занимала комнату высокую, обширную, в несколько окон, беспорядочно и тесно уставленную — физическими приборами на тесовых стеллажах и на стойках из ярко-белого алюминия; монтажными верстачками; новёхонькими столами и фанерными шкафами московской выделки; и уютными конторками для письма, уже отвековавшими в берлинском здании радио-фирмы «Лоренц».
Большие лампы в матовых шарах давали сверху приятный нежёлтый рассеянный свет.
В дальнем углу комнаты, не доставая до потолка, высилась звуконепроницаемая акустическая будка. Она выглядела недостроенной: снаружи обшита была простой мешковиной, под которую натолкали соломы. Её дверь, аршинная в толщину, но полая внутри, как гири цирковых клоунов, сейчас была отпахнута, и поверх двери откинут для проветривания будки шерстяной полог. Близ будки медно посверкивал рядами штепсельных гнёзд чёрный лакированный щиток центрального коммутатора.
У самой будки, спиною к ней, кутая узкие плечи в платок из козьего пуха, сидела за письменным столом хрупкая, очень маленькая девушка со строгим беленьким лицом.
До десятка остальных людей в комнате все были мужчины, всё в тех же синих комбинезонах. Освещённые верхним светом и пятнами дополнительного от гибких настольников, тоже привезенных из Германии, они хлопотали, ходили, стучали, паяли, сидели у монтажных и письменных столов.
Там и сям по комнате вразнобой вещали джазовую, фортепьянную музыку и песни стран восточной демократии три самодельных приёмника, скорособранных на случайных алюминиевых панелях, без футляров.
Рубин шёл по лаборатории к своему столу медленно, с монголо-финским словарём и Хемингуэем в опущенной руке. Белые крошки печенья застряли в его вьющейся чёрной бороде.
Хотя комбинезоны всем арестантам были выданы одинаково сшитые, но носили их по-разному. У Рубина одна пуговица была оторвана, пояс — расслаблен, на животе обвисали какие-то лишние куски ткани. На его пути молодой заключённый в таком же синем комбинезоне держался франтовски, его матерчатый синий пояс был затянут пряжками вкруг тонкого стана, а на груди, в распахе комбинезона, виднелась голубая шёлковая сорочка, хотя и линялая от многих стирок, но замкнутая ярким галстуком. Молодой человек этот занял всю ширину бокового прохода, куда направлялся Рубин. Правой рукой он чуть помахивал горячим включённым паяльником, левую ногу поставил на стул, облокотился о колено и напряжённо разглядывал радио-схему в разложенном на столе английском журнале, одновременно напевая: