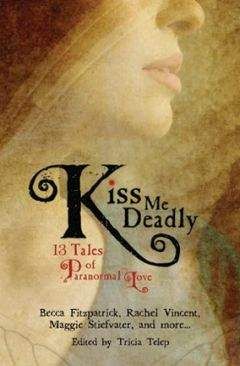— Какого возраста сестра Тереза? — допытывался влюблённый, не смея спросить у священника, красива ли монахиня.
— У неё нет больше возраста, — отвечал старик с простотой, заставившей генерала содрогнуться.
На следующее утро, перед сиестой, духовник явился сообщить французу, что мать-настоятельница и сестра Тереза согласились принять его перед вечерней за решёткой приёмной залы. После сиесты, в течение которой генерал под палящим солнцем бродил по гавани, не зная, как убить время, священник зашёл за ним и проводил его в монастырь; он повёл его по галерее вдоль кладбища, где фонтаны, зеленые деревья и множество арок создавали прохладу, гармонирующую с тишиной этого пустынного места. Дойдя до конца галереи, священник ввёл своего спутника в приёмную залу, разделённую пополам решёткой с тёмным занавесом. В отведённой для посетителей части помещения, где духовник оставил генерала, тянулась вдоль стены деревянная скамья; возле решётки стояло несколько стульев, тоже деревянных. Потолок был из каменного дуба, с выступающими балками, без всяких украшений. Дневной свет проникал в залу через два окна, расположенных на половине монахинь, и его тусклые лучи, слабо отражённые тёмным деревом потолка, едва освещали большое чёрное распятие, изображение святой Терезы и образ Богоматери, которыми были украшены серые стены приёмной. Бурные чувства генерала смягчились и приняли оттенок меланхолии. Спокойствие этой скромной комнаты передалось и ему. От прохладных стен на него повеяло величавым бесстрастием могилы. Не напоминало ли о могиле это вечное безмолвие, глубокая тишина, размышления о бесконечности? Безмятежный покой и созерцательный дух монастыря витали в воздухе, сквозили в сочетании света и тени, царили во всем, и торжественные слова мир во Господе, нигде не начертанные, но возникающие в воображении, проникали поневоле в самую неверующую душу. Назначение мужских монастырей понять трудно. Мужчина создан для деятельности, для трудовой жизни, от которой он уклоняется, затворяясь в келье. Но сколько мужественной силы и трогательной слабости сокрыто в женских обителях! Множество причин может побудить мужчину постричься в монастырь, он бросается туда, как в омут. Но женщину влечёт в заточение одно-единственное чувство: она не изменяет своей природе, она обручается с небесным супругом. Вы вправе спросить у монаха: «Почему ты не боролся?» Но, решаясь стать затворницей, не вступает ли женщина в мужественную борьбу? Генерал чувствовал, что и эта безмолвная приёмная и весь затерянный в море монастырь полны только им и дышат им одним. Любовь редко достигает величия; но разве не величественна была эта любовь, хранящая верность и в лоне Божием, превзошедшая все, на что смел бы надеяться мужчина в девятнадцатом веке, при современных нравах? Понимание такой беспредельно великой любви было доступно душе генерала, — именно такой человек, как он, был способен забыть политику, почести, Испанию, Париж, все на свете и возвыситься до этой грандиозной развязки. Поистине, что может быть трагичнее? Что сравнится с чувствами двух влюблённых, которые встретились на гранитной скале, окружённой морем, но разъединены неодолимой преградой идеи! Представьте себе мужчину, который вопрошает себя: «Восторжествую ли я над Богом в её сердце?»
Лёгкий шорох заставил генерала вздрогнуть; тёмный занавес раздвинулся; при тусклом свете он увидел женщину, стоявшую за решёткой, лицо её было закрыто ниспадающими складками длинного покрывала; согласно монастырским правилам, она была в одеянии того блекло-коричневого цвета, который в народе так и называется кармелитским. Босые ноги её тоже были закрыты, и генерал не мог видеть их ужасающей худобы; однако, глядя на монахиню, окутанную уродливыми складками грубой рясы, он угадал, что слезы, молитвы, страдания и одиночество уже иссушили её.
Какая-то женщина, вероятно настоятельница, придерживала занавес ледяною рукой; обернувшись к неизбежной свидетельнице их беседы, генерал встретился взглядом с проницательными чёрными глазами монахини, почти столетней старухи, — глазами до странности зоркими и молодыми на бледном лице, изборождённом множеством морщин.
— Герцогиня, — прерывающимся от волнения голосом спросил он у монахини, которая стояла потупившись, — ваша спутница понимает по-французски?
— Здесь нет герцогини, — отвечала она. — Перед вами сестра Тереза. Женщина, которую вы назвали моей спутницей, — здешняя настоятельница, моя мать во Господе.
Её полные смирения слова, слетевшие с уст, когда-то столь легкомысленных и насмешливых, произнесённые голосом, который он слышал в былое время среди блеска и роскоши, окружавших в Париже эту женщину, царицу моды, поразили генерала, как удар грома.
— Святая мать говорит только по-латыни и по-испански, — добавила она.
— Я не знаю ни того, ни другого языка. Передайте ей мои извинения, дорогая Антуанетта.
Услыхав своё имя, с такой нежностью произнесённое человеком, некогда столь суровым к ней, монахиня пришла в сильное волнение, о чем можно было догадаться по лёгкому трепету покрывала, на которое падал яркий свет.
— Брат мой, — проговорила она, просовывая руку под покрывало, вероятно, чтобы утереть слезы, — меня зовут сестрой Терезой…
Затем она обратилась к настоятельнице по-испански; генерал, который знал испанский язык достаточно, чтобы понимать, а может быть, и говорить на нем, отлично разобрал её слова:
— Матушка, кавальеро свидетельствует вам почтение и просит извинить, что не может лично приветствовать вас: он не говорит ни по-латыни, ни по-испански.
Старуха медленно наклонила голову; её лицо приняло выражение ангельской кротости и вместе с тем гордости от сознания своей власти и достоинства.
— Ты знаешь этого кавальеро? — спросила настоятельница, бросив на неё пытливый взгляд.
— Да, матушка.
— Дочь моя, возвратись в келью! — сказала настоятельница повелительным тоном.
Генерал быстро отступил в тень занавеса, чтобы скрыть бурное волнение, отразившееся на его лице, но и в полумраке ему мерещился пронизывающий взгляд игуменьи. Ему внушала ужас эта женщина, от которой зависело мимолётное хрупкое счастье, достигнутое с таким трудом, — и суровый воин, ни разу в жизни не дрогнувший перед тройным рядом пушек, трепетал от страха. Герцогиня направилась к двери, но вдруг обернулась.
— Матушка, — промолвила она невероятно спокойным голосом, — этот француз один из моих братьев.
— Тогда останься, дочь моя, — сказала старуха после некоторого раздумья.
В восхитительной иезуитской уловке сестры Терезы было столько любви, столько сожаления о прошлом, что при всей своей выдержке генерал едва нашёл силы перенести такую острую радость после угрожавшей ему опасности. Как же высоко надо было ценить каждое слово, движение, взгляд при этом кратком свидании, где любовь должна была утаиться от рысьих глаз, от когтей тигра! Сестра Тереза опять подошла к решётке.
— Видите, брат мой, на что я решилась ради краткой беседы о спасении вашей души, о молитвах, которые я возношу за вас денно и нощно Создателю. Я совершила смертный грех. Я солгала. Много дней буду я нести покаяние, чтобы замолить эту ложь! Но ведь я буду страдать ради вас. Если бы вы знали, брат мой, какое блаженство в любви неземной, какое счастье иметь право признаться себе в своём чувстве, когда религия освятила и возвысила его, когда мы научились любить только в духе и Господе. Если бы учение и мудрость нашей святой покровительницы, основавшей эту обитель, не помогли мне отрешиться от земных уз и не вознесли меня высоко над миром — хотя мне далеко ещё до горних селений, где обретается она сама, — я не решилась бы свидеться с вами. Но отныне я могу смотреть на вас, слышать ваш голос и оставаться безмятежной…
— Ах, Боже мой, Антуанетта, — воскликнул генерал, прерывая её с нетерпением, — дайте же мне увидеть вас, ведь теперь я люблю вас страстно, без памяти — люблю так, как вы хотели быть любимой!
— Не называйте меня Антуанеттой, умоляю вас. Мне больно вспоминать о прошлом. Перед вами только сестра Тереза, бедная грешница, уповающая на милосердие Божие. И потом, будьте более сдержанны, брат мой, — добавила она, помолчав. — Мать-настоятельница безжалостно разлучит нас, если заметит на вашем лице отражение мирских чувств, если увидит слезы на ваших глазах.
Генерал склонил голову, чтобы справиться с собой. Когда он поднял глаза, он увидел за прутьями решётки бледное, исхудалое, но все ещё страстное лицо монахини. Это нежное, когда-то блиставшее юной свежестью лицо, матовая белизна которого пленительно сочеталась с цветом бенгальской розы, приобрело тёплый оттенок фарфоровой чаши, освещённой изнутри слабым огнём. Роскошные волосы, которыми молодая женщина некогда так гордилась, были острижены. Повязка обвивала её лоб и обрамляла лицо. Глаза, обведённые тёмными кругами от лишений и самоистязаний, по временам излучали лихорадочный блеск, нарушавший их напускное спокойствие. Словом, от этой женщины осталась одна душа.