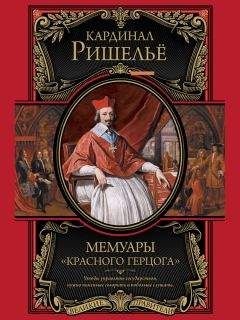Таков был план Ланни. Он вспомнил Ньюкасл в штате Коннектикут и своего старого угрюмого пуританина-дедушку, который фабриковал пулеметы и снаряды, а по воскресеньям вел класс библии для рабочих. В первое воскресенье после перемирия он взял темой текст из 122-го псалма: «Да будет мир окрест стен твоих и благоденствие в чертогах твоих.» Внук узнал, что один из столяров, работавших в усадьбе, был искусным резчиком по дереву, он привел его в гостиную и велел вырезать первую половину этого текста старинной вязью на широком карнизе массивного камина.
Уже после того, как надпись была вырезана, Ланни в одной из книг прадедушки Эли о древней Греции прочитал слова Аристофана «Euphemiasto», что означает: «Да будет здесь мир» или «Мир дому сему». Это была точка, в которой пересеклись устремления греков и древних израильтян; это было то, чего алкали сердца честных людей во всем мире. Но из своих шестимесячных похождений на дипломатическом поприще Ланни вынес убеждение, что честным людям придется еще долго ждать, пока сбудутся их чаяния. А в настоящее время — самое лучшее, что может сделать человек, это построить не слишком дорогой дом в какой-нибудь части света, где нет золота, нефти, угля и других полезных ископаемых и где нет поблизости спорной границы или стратегически важных участков суши или воды. Здесь, если ему посчастливится, он найдет покой в собственных стенах, и, быть может, здесь его осенят мысли, которые окажутся полезными для истерзанного враждой мира.
ГЛАВА ВТОРАЯ
Ты знаешь ли тот край?
I
Снова на Ривьере наступил «сезон», и в Европе и Америке люди поняли, что можно снова получать паспорта и ехать куда вздумается, по-княжески, было бы чем платить. Шведские лесопромышленники, норвежские магнаты китобойных промыслов, голландские короли кофе, каучука и олова, акционеры швейцарских электрокомпаний, английские шахтовладельцы, хозяева французских военных заводов, таинственным образом уцелевших от разрушительных бомбежек, — все эти счастливцы все чаще слышали теперь за утренним чаем жалобы своих жен на туманы и ледяные ветры, и им все чаще напоминали о том крае, где «лимоны зреют, средь темных листьев апельсины рдеют, теплом и негой ветер обдает, где кроткий мирт и гордый лавр цветет».
И снова в маленьких гаванях Ниццы и Канн стояли на рейде белые яхты, а голубые парижские экспрессы переполнены были пассажирами. Добрая половина из них были американцы, вот уже пять лет дважды в день читавшие о Европе, но лишенные привычных радостей «культурного отдыха». Снова появились роскошные пароходы, и подводные лодки уже не подстерегали их на пути. Туристы объезжали в автобусах районы боев, посещали города, ставшие историческими, и прежнему коверкали их названия. Любопытные бродили по полям сражений, над которыми еще носились страшные запахи войны, и осматривали разрушенные окопы, где из-под обломков нередко торчали то человеческая рука, то нога в сапоге. О.ни подбирали шлемы и стаканы от снарядов, чтобы дома сделать из них стойку для книг или зонтов.
А когда эти впечатления начинали приедаться, оставался еще Лазурный берег, прекрасный и романтический, нетронутый войной, — скалистые берега и утесы, извилистые лощины, вечно голубое небо и вечно сияющее солнце. Здесь можно было слоняться в спортивной одежде по приморским бульварам и глазеть на великих людей, о которых пишут в газетах, — на королей с их возлюбленными, на азиатских властителей с их свитой юношей, на русских великих князей, бежавших от большевиков, не говоря уже о пестрой смеси государственных деятелей и прославленных боксеров, журналистов и жокеев, капитанов промышленности и звезд эстрады и экрана. А вечером можно было одеться и потолкаться среди тех же знаменитостей в казино и, может быть, даже познакомиться с ними в каком-нибудь из так называемых американских баров.
II
Конечно, не все посетители Ривьеры были в этом роде. Люди с утонченным вкусом приезжали насладиться теплым климатом и красотами природы. На холмах, за Каннами, были разбросаны виллы, принадлежавшие англичанам и американцам; владельцы из года в год приезжали сюда на зиму и вели поистине примерный образ жизни. К числу их принадлежала Эмили Чэттерсворт, которая превратила свою виллу в приют для обучения французских инвалидов войны новым профессиям и ремеслам. Год прошел с тех пор, как война увенчалась победой, и хозяйка решила, что выполнила свой долг. Инвалидов, прошедших курс обучения, отправили по домам, а безнадежных калек взяло на свое попечение правительство. Виллу «Семь дубов» отремонтировали заново, и владелица приехала сюда на зимний сезон. Узнав об этом, Ланни поспешил навестить ее.
— Скажите на милость, что делает Бьюти в Испании? — был ее первый вопрос.
Молодой человек недаром шесть месяцев подвизался на дипломатическом поприще — вопрос не застиг его врасплох. Он слегка улыбнулся:
— Бьюти скоро приедет и расскажет вам сама.
— А вы, значит, сказать не хотите?
Ланни продолжал улыбаться.
— Думаю, что это удовольствие надо предоставить ей.
— Да в чем дело? Что-нибудь из ряда вон выходящее?
— Почему вы думаете?
Ланни хорошо знал женщин и давно убедился, что больше всего на свете их интересует то, что касается сердечных дел. Вот перед ним величавая дама, ей уже под шестьдесят — это Ланни знал точно, ибо ее мать однажды сказала ему, что Эмили родилась в Балтиморе под топот солдатских сапог, когда шестой Массачузетский полк отправлялся на гражданскую войну. За пятьдесят восемь лет и девять месяцев жизни малютка Эмили Сиблей стала тем, что французы называют grande dame, хозяйкой салона, принимавшей у себя наряду со светскими львами самых блестящих деятелей Франции. У нее были внушительные манеры, она одевалась с изысканной тщательностью; и вот, одержимая зудом любопытства, она невольно открывает перед Ланни свою душу, душу ребенка, и ей не терпится знать, что случилось с ее подружкой Мэйбел Блэклесс, она же Бьюти Бэдд, она же мадам Детаз, вдова.
Ланни рассказал ей о крошке Марселине и о своих наблюдениях над развитием музыкальности у детей. Рассказал и о Робби Бэдде, об успехах его нефтяного предприятия в Южной Аравии. Отсюда разговор перешел на судьбу эмира Фейсала — этого смуглолицего Иисуса, которого Ланни встретил у миссис Эмили в Париже во время мирной конференции. Молодой эмир снова в Париже, он добивается, чтобы ему разрешили править родной страной, а друг его, Лоуренс, скрылся. Казалось бы, миссис Эмили должна интересоваться ими обоими; а она вдруг круто оборвала разговор и спросила: — Ланни, скажите правду, Бьюти опять вышла замуж?
Ланни ответил той же веселой улыбкой. — Есть причина, почему она хочет сама сказать вам. Вы тогда поймете.
— Вот женщина! Вот женщина! Никогда не знаешь, чего ожидать от нее!
— По крайней мере, с ней вам не скучно, — сказал Ланни, посмеиваясь. Он знал, что далеко не все знакомые миссис Чэттерсворт заслуживают такой похвалы.
III
— Я так и знала, — сказала хозяйка «Семи дубов». — Тут замешан мужчина?
— Так уж я создана, — с виноватым видом сказала Бьюти. — Честное слово, Эмили, у меня и в мыслях ничего подобного не было. Мне казалось, что я до конца моих дней буду горевать о Марселе. Но мужчины так настрадались за эту войну.
— И вы встретили такого, который не может жить без вас? — Глаза Эмили светились насмешкой.
— Не шутите, Эмили. Это трагическая история, и вы увидите, что тут все вышло помимо моей воли. Но прежде всего поклянитесь, что не пророните никому ни словечка; дело идет о жизни и смерти, да и скандал был бы страшный, если бы все открылось! Этот человек был германским агентом.
— О, mon dieu![2] — воскликнула Эмили.
— Мне сейчас особенно нужна ваша дружба, как никогда раньше. Может быть, вы не захотите продолжать со мной знакомство, но, по крайней мере, обещайте хранить мою тайну, пока я не сниму запрет.
— Даю слово, — сказала Эмили.
— Вы помните, Эмили, за год до войны, летом, Ланни был в Геллерау. Там он подружился с одним немецким мальчиком, Куртом Мейснером; его отец — управляющий большим поместьем Штубендорф в Верхней Силезии. Теперь эта местность отошла к Польше. Не знаю, помните ли вы, что Ланни ездил к ним гостить на рождество.
— Кажется, припоминаю, — ответила Эмили и прибавила: — И вы выкрали этого младенца из колыбели?
— Скажите лучше, выкрала труп из могилы.
— Я так и знала, что это будет нечто фантастическое. Ну, дальше!
— Мальчик был старше Ланни и имел на него большое влияние. Трудолюбивый, серьезный — в немецком вкусе. Он стремился стать композитором и учился играть на всевозможных инструментах. Это был очень хороший мальчик, с твердыми нравственными правилами, и Ланни прямо молился на него и все говорил, что хочет быть таким, как Курт. Они переписывались, и Ланни давал мне читать его письма, так что я хорошо его знала.